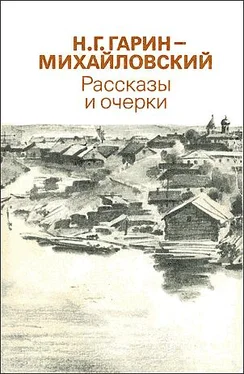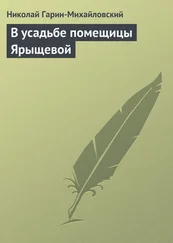В этот день я сделал подарок Григорьеву.
Как-то раньше, во время отдыха, сидя, по обыкновению, на перилах, Григорьев, поманив меня пальцем, спросил:
- Вы читали Лермонтова? Помните?
И он начал декламировать: "Отец, отец, оставь угрозы..." Декламировал он так быстро, так не звучно, что, если не знать, что именно он говорит, — понять ничего нельзя было бы.
Оборвавшись на какой-то строчке, он с горечью проговорил:
- Девчонка, баловница негодная, выдрала с полкнижки, и вот не знаю, где бы достать, чтобы переписать выдранное.
Я купил тогда же сочинения Лермонтова, отдал их переплести в красивый переплет с вытисненным именем, отчеством и фамилией Григорьева и все не решался передать книгу Григорьеву.
День его рожденья был очень удобный случай.
После обеда я отпросился на минуту домой и принес Лермонтова.
Григорьев сидел, что-то напевая. Когда я подал ему книгу, он прочел название и, радостно встрепенувшись, сказал:
- Ну, вот так спасибо, такое спасибо, — ночи спать не буду, пока все, что вырвано, не перепишу.
- Списывать не надо, вот, прочтите, чья это книжка.
Григорьев, поняв, в чем дело, растрогался до слез. Вытирая их жестким рукавом, он говорил:
- Никто мне за всю мою жизнь такого баловства не делал... И как раз в такой день, точно знали вы...
И, успокоившись, бережно завернув книгу, он, усевшись опять на перила, заговорил:
- Эх, милый, милый, не сладка вся жизнь моя вышла. Я ведь так и вырос без отца и матери - кто они? Кто скажет? Вот так, сколько помню, и жил на улице и дни и ночи... Сколько раз замерзал совсем... А сколько били и как били... Был и сапожником, и лавочником, и шапочником, и кузнецом... Тут вышло вроде замирения у меня, — женился я... Был уже кочегаром... Вот так же все не дома, да не дома. Женщина молодая, да и во мне-то какая сласть: снюхалась с одним тут... так, прощелыга. Приехал раз с поезда, никого, и дверь не заперта, — иди, кто хочешь, бери, что хочешь... И остался я сразу один опять: тут я и стал вот этой самой бутылочкой ушибаться... А года через два вдруг объявилась: еле живая приволоклась вот с этой самой девочкой. Через месяц и богу душу отдала... Так убивалась перед смертью... да уж и я выл медведем: хоть и опаскуженная, хоть и не за мной убивается, а из сердца не вырвешь, да и чем дитю-то несчастное виновато, что должно оно без матери и отца остаться... Что мне врать? Была бы воля, — лег бы за нее в гроб и сейчас даже...
А через несколько дней Григорьев, счастливый, как ребенок, принес мне грязную с подшитой тетрадью книгу и сказал:
- Переписал-таки! Эта книга будет мне на будни, а вашу по праздникам стану читать.
Однажды, когда, окончив дежурство, мы подъехали, по обыкновению, к депо, глухой начальник сказал Григорьеву:
- Вы с вашим кочегаром назначаетесь в поезда: конец маневрам. Сегодня отдыхайте, а завтра сдавайте свой и получайте новый паровоз.
На другие сутки, в половине двенадцатого ночи, мы уже выходили со станции с нашим первым поездом.
Я волновался, Григорьев был торжественен.
Моросил дождик, и Григорьев спросил:
- Сухого песку не забыли насыпать в песочницу?
Я обмер, вспомнив только теперь о злополучном песке, но ответил:
- Насыпал!
Сейчас же за станцией начинался подъем, колеса паровоза забуксовали на мокрых рельсах, и Григорьев озабоченно крикнул мне из своего угла:
- Песок!
Я задергал ручку песочницы, и пустая песочница звонко затрещала.
- Игрушки, что ли, — крикнул Григорьев, как давно не кричал, — знаете сами, что нет песку! Сейчас съедем назад и перебьем весь поезд, — ступайте перед паровозом и посыпайте рельсы балластным песком.
И вот я иду перед паровозом, беру с пути песок, сыплю его на рельсы, и чудовище-паровоз со всем своим длинным хвостом, злясь и пыхтя, готовое каждую секунду, споткнись только я, раздавить меня - и все-таки покорное, укрощенное, тихо тянется за моей рукой. Точно я сам, гигант Самсон, тащу весь этот поезд.
- Ну, будет, садитесь!
Паровоз прибавляет ходу, я вскакиваю, и мы едем.
Темная ночь охватывает нас со всех сторон, брызги дождя летят в лицо, ветер рвет шапку, раздувает блузу, мы оба, высунувшись, во все глаза смотрим вперед в непроглядную темь.
Смотрим, чтобы вовремя увидеть неисправность пути, лежащий на рельсах какой-нибудь предмет, переходящую через путь лошадь, человека.
И вдруг из-за крутого закругления перед мостом фонари паровоза освещают дикую, полную ужаса картину: табун спутанных лошадей, бешено скачущих по полотну.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу