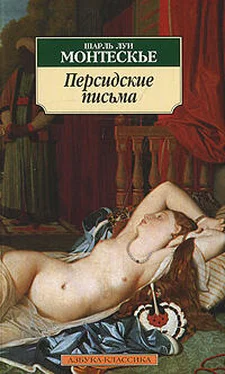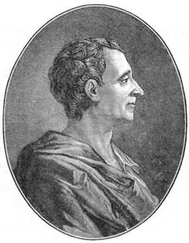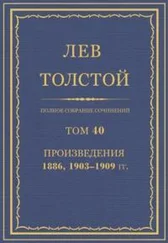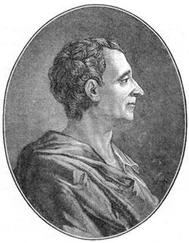Из всех писателей я больше всего презираю компиляторов, которые набирают где только могут обрывки чужих произведений и вкрапливают их в свои, как цветочные клумбы в однообразный газон. Они нисколько не выше типографских рабочих, набирающих буквы, из сочетания коих составляется книга, к которой они приложили только руку. Хотелось бы, чтобы люди уважали самобытные сочинения, и мне кажется, что выдергивать отдельные отрывки из святилища, в котором они заключаются, чтобы подвергнуть их незаслуженному презрению, — своего рода святотатство.
Почему человек, которому нечего сказать, не молчит? И кому нужна эта двойная работа? «Но я предлагаю новый порядок». — «Подумаешь, какой умник! Вы приходите в мою библиотеку и переставляете книги, стоящие вверху, вниз, а стоящие внизу — наверх. Вот так великое произведение искусства!»
Я пишу тебе, ***, об этом потому, что меня вывела из себя книга, которую я только что прочитал, — книга такая толстая, что, казалось, она содержит в себе всю премудрость, а она только заморочила мне голову, ничему не научив.
Из Парижа, месяца Шахбана 8-го дня, 1714 года
ПИСЬМО LXVII. Иббен к Узбеку в Париж
Три корабля пришли сюда, не привезя мне от тебя известий. Не болен ли ты? Или тебе просто вздумалось меня помучить?
Если ты позабыл меня, живя в стране, где ты ни с чем не связан, то что же будет в Персии и в лоне твоей семьи? Но, может быть, я ошибаюсь: ты так любезен, что всюду найдешь друзей. Сердце — гражданин всех стран. Как же возвышенной душе избежать новых привязанностей? Признаюсь тебе: я уважаю старую дружбу, но ничего не имею и против того, чтобы повсюду приобретать новых друзей.
В какой бы стране мне ни приходилось бывать, я жил так, словно собирался провести там всю жизнь: я всюду одинаково ценил добродетельных людей, проявлял сострадание, или скорее нежность, к несчастным, уважение к людям, которых не ослепило богатство. Таков мой нрав, Узбек: всюду, где только есть люди, я найду себе друзей.
Тут живет один огнепоклонник; он, думается мне, занимает первое место после тебя в моем сердце: он — сама честность. Особые обстоятельства принудили его удалиться в Смирну, и он ведет здесь спокойное существование вместе с любимой женой на доход от честной торговли. Вся его жизнь отмечена великодушными поступками, и, хотя он стремится к безвестности, в сердце его больше доблести, чем в сердцах самых великих монархов.
Я тысячу раз говорил ему о тебе, показываю ему все твои письма и замечаю, что это доставляет ему удовольствие. Вижу, что ты обрел в его лице еще неведомого тебе друга.
Ты найдешь здесь рассказ о его главных приключениях; ему очень не хотелось о них писать, но из дружбы ко мне он не мог мне отказать, а я доверяю их твоей дружбе.
История Аферидона и Астарты
Я родился в среде огнепоклонников, исповедующих, пожалуй, самую древнюю религию изо всех существующих в мире религий. На мое несчастье любовь пришла ко мне раньше разума. Мне едва исполнилось шесть лет, а я уже не мог жить без своей сестры: мои глаза постоянно были прикованы к ней, а стоило ей на минуту оставить меня, как они наполнялись слезами; моя любовь росла быстрее, чем я сам. Отец, удивленный столь сильной привязанностью, охотно повенчал бы нас, согласно древнему обычаю огнепоклонников, установленному Камбизом {74} 74 Камбиз (царств. 529-521 до н.э.) — древнеперсидский царь, отец Великого Кира. По свидетельству Геродота (История, кн. III, гл. 31), Камбиз поочередно был женат на своих сестрах.
, но страх перед магометанами, под игом которых мы живем, мешает людям нашего племени даже думать об — этих святых союзах, не только дозволенных, но и предписываемых нашей религией и являющихся простодушным подтверждением союза, уже установленного самой природой.
Поэтому отец мой, видя, что было бы опасно послушаться собственного сердца и потворствовать моей склонности, решил погасить пламя, которое он считал только зарождающимся, между тем как оно уже отчаянно полыхало. Под предлогом путешествия он увез меня с собою, поручив заботы о сестре нашей родственнице, ибо моя мать умерла за два года до того. Не стану говорить, в какое отчаяние повергла меня эта разлука: я обнимал сестру, заливавшуюся слезами, но сам не пролил ни слезинки; горе сделало меня как бы бесчувственным. Мы приехали в Тифлис, и отец, доверив мое воспитание родственнику, оставил меня там, а сам возвратился домой.
Немного спустя я узнал, что он, при содействии друга, поместил мою сестру в царский бейрам {75} 75 Бейрам — байрам, мусульманский праздник. Монтескье, по-видимому, ошибочно употребил это слово вместо слова гарем.
, где она стала служанкой султанши. Если бы мне сообщили о ее смерти, я не был бы больше потрясен, ибо, не говоря уже о том, что я утратил надежду когда-либо вновь увидеть ее, вступление в бейрам делало ее магометанкой, и, следуя предрассудку этой религии, она впредь могла питать ко мне лишь отвращение. Между тем, наскучив жизнью в Тифлисе, тяготясь даже самим существованием на свете, я возвратился в Испагань. Горькими были первые слова, с которыми я обратился к отцу: я упрекал его за то, что он поместил дочь в такой дом, куда можно войти, только отрекшись от своей веры. «Ты навлек этим на свою семью, — сказал я ему, — гнев бога и солнца, светящего тебе; ты поступил хуже, чем если бы осквернил Стихии, потому что ты осквернил душу своей дочери, не менее их чистую. Я умру от скорби и любви, но да будет смерть моя единственным наказанием, которым покарает тебя бог!» С этими словами я вышел и целых два года только и делал, что бродил под стенами бейрама и взирал на дом, где могла находиться моя сестра, причем я ежедневно тысячи раз подвергался опасности быть задушенным евнухами, которые ходили дозором вокруг этих страшных мест.
Читать дальше