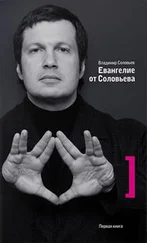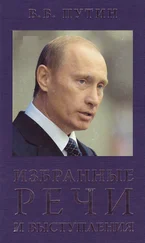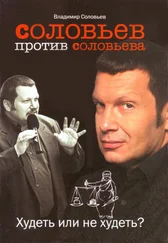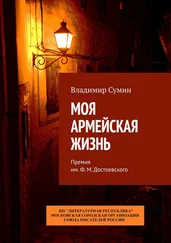Толстого. Хотя затем Тургенев постоянно следил за нашим общественным движением и отчасти подчинялся его влиянию, но смысл - --------------------------------------* В сравнении с Обломовым Фамусовы и Молчалины, Онегины и Печорины. Маниловы и Собакевичи, не говоря уже о героях Островского, все имеют лишь {специальное} значение. [296] этого движения не был им угадан, а роман, специально посвященный этому предмету ("Новь"), оказался совершенно неудачным*. Достоевский не подчинился влиянию господствовавших кругом него стремлений, не следовал покорно за фазисами общественного движения - он предугадывал повороты этого движения и заранее {судил} их. А судить он мог по праву, ибо имел у себя мерило суждения в своей вере, которая ставила его выше господствующих течений, позволяла ему видеть гораздо дальше этих течений и не увлекаться ими. В силу своей веры Достоевский верно предугадывал высшую, далекую цель всего движения, ясно видел его уклонения от этой цели, по праву судил и справедливо осуждал их. Это справедливое осуждение относилось только к неверным путям и дурным приемам общественного движения, а не к самому движению, необходимому и желанному; это осуждение относилось к низменному пониманию общественной правды, к ложному общественному идеалу, а не к исканию общественной правды, не к стремлению осуществить общественный идеал. Этот последний и для Достоевского был впереди: он верил не в прошедшее только, но и в грядущее Царство Божие и понимал необходимость труда и подвига для его осуществления. Кто знает истинную цель движения, тот может и должен судить уклонения от нее. А Достоевский тем более имел на это право, что он сам первоначально испытал те уклонения, сам стоял на той неверной дороге. Положительный религиозный идеал, так высоко поднявший Достоевского над господствующими течениями общественной мысли, этот положительный идеал не дался ему сразу, а был выстрадан им в тяжелой и долгой борьбе. Он судил о том, что знал, и суд его был праведен. И чем яснее становилась для него высшая истина, тем решительнее должен был он осуждать ложные пути общественного действия. Общий смысл всей деятельности Достоевского, или значение Достоевского как общественного деятеля, состоит в разрешении этого двойного вопроса: о высшем идеале общества и о настоящем пути к его достижению. Законная причина социального движения заключается в противоречии между нравственными требованиями лич- --------------------------------------* Хотя Тургеневу принадлежит слово "нигилизм" в общеупотребительном его значении, но практический смысл нигилистического движения не был им угадан, и позднейшие его проявления, далеко ушедшие от разговоров Базарова, были для автора "Отцов и детей" тяжкой неожиданностью. [297] ности и сложившимся строем общества. Отсюда начал и Достоевский как описатель, толкователь и вместе с тем деятельный участник нового общественного движения. Глубокое чувство общественной неправды, хотя и в самой безобидной форме, высказалось в его первой повести "Бедные люди". Социальный смысл этой повести (к которой примыкает и позднейший роман "Униженные и оскорбленные") сводится к той старой и вечно новой истине, что при существующем порядке вещей {лучшие} (нравственно) люди суть вместе с тем {худшие} для общества, что им суждено быть бедными людьми, униженными и оскорбленными*. Если бы социальная неправда осталась для Достоевского только темой повести или романа, то и он сам остался бы только литератором и не достиг бы своего особого значения в жизни русского общества. Но для Достоевского содержание его повести было вместе с тем жизненною задачей. Он сразу поставил вопрос на нравственную и практическую почву. Увидав и осудив то, что делается на свете, он спросил: что же должно сделать? Прежде всего представилось простое и ясное решение: лучшие люди, видящие на других и на себе чувствующие общественную неправду, должны, соединившись, восстать против нее и пересоздать общество по-своему. Когда первая наивная попытка** исполнить это решение привела Достоевского к эшафоту и на каторгу, он, как и его товарищи, сначала мог видеть в таком исходе своих замыслов только свою неудачу и чужое насилие. Приговор, его постигший, был суров. Но чувство обиды не помешало Достоевскому понять, что он был не прав с своим замыслом социального переворота, который был нужен только ему с товарищами (6). Среди ужасов мертвого дома Достоевский впервые сознательно повстречался с правдой народного чувства и в его свете ясно увидел неправоту своих революционных стремлений. Товарищи Достоевского но острогу были в огромном большинстве из простого народа, и, за немногими яркими исключениями, все это были худшие люди народа. Но и худшие люди простого народа обыкновенно - --------------------------------------* Это та же саман тема, как в "Les Miserables" Виктора Гюго: контраст между внутренним, нравственным достоинством человека и его социальным положением. Достоевский очень высоко ценил этот роман и сам подвергся некоторому, хотя довольно поверхностному, влиянию Виктора Гюго (склонность к антитезам). Более глубокое влияние помимо Пушкина и Гоголя оказали на него Диккенс и Жорж Занд (7). ** Наивная, собственно, со стороны Достоевского, которому пути социального переворота представлялись в весьма неопределенных чертах. [298] сохраняют то, что теряют лучшие люди интеллигенции: веру в Бога и сознание своей греховности. Простые преступники, выделяясь из народной массы своими дурными делами, нисколько не отделяются от нее в своих чувствах и взглядах, в своем религиозном миросозерцании. В мертвом доме Достоевский нашел настоящих "бедных (или, по народному выражению, несчастных) людей" (8). Те прежние, которых он оставил за собою, еще имели убежище от общественной обиды в чувстве собственного достоинства, в своем личном превосходстве. У каторжников {этого} не было, но было нечто большее. Худшие люди мертвого дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшие люди интеллигенции. Если там, среди представителей просвещения, остаток религиозного чувства заставлял его бледнеть от богохульств передового литератора, то тут, в мертвом доме, это чувство должно было воскреснуть и обновиться под впечатлением смиренной и благочестивой веры каторжников. Как бы забытые Церковью, придавленные государством, эти люди верили в Церковь и не отвергали государства. И в самую тяжкую минуту за буйной и свирепой толпой каторжников встал в памяти Достоевского величавый и кроткий образ крепостного мужика Марея, с любовью ободряющего испуганного барчонка (9). И он почувствовал и понял, что перед этой высшей Божьей правдой всякая своя самодельная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другим есть преступление. Вместо злобы неудачного революционера Достоевский вынес из каторги светлый взгляд нравственно возрожденного человека. "Больше веры, больше единства, а если любовь к тому, то все сделано", - писал он. Эта нравственная сила, обновленная соприкосновением с народом, дала Достоевскому право на высокое место впереди нашего общественного движения не как служителю злобы дня, а как истинному двигателю общественной мысли. Положительный общественный идеал еще не был вполне ясен уму Достоевского по возвращении из Сибири. Но три истины в этом деле были для него совершенно ясны: он понял прежде всего, что отдельные лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют права насиловать общество во имя своего личного превосходства; он понял также, что общественная правда не выдумывается отдельными умами, а коренится во всенародном чувстве, и, наконец, он понял, что эта правда имеет значение религиозное и необходимо связана с верой Христовой, с идеалом Христа. [299] В сознании этих истин Достоевский далеко опередил господствовавшее тогда направление общественной мысли и благодаря этому мог {предугадать} и указать, куда ведет это направление. Известно, что роман "Преступление и наказание" написан как раз перед преступлением Данилова* и Каракозова, а роман "Бесы" - перед процессом нечаевцев. Смысл первого из этих романов, при всей глубине подробностей, очень прост и ясен, хотя многими и не был понят. Главное действующее лицо - представитель того воззрения, по которому всякий сильный человек сам себе господин и ему все позволено. Во имя своего личного превосходства, во имя того, что он сила, он считает себя вправе совершить убийство и действительно его совершает. Но вот вдруг то дело, которое он считал только нарушением внешнего бессмысленного закона и смелым вызовом общественному предрассудку, - вдруг оно оказывается для его собственной совести чем-то гораздо большим, оказывается грехом, нарушением внутренней, нравственной правды. Нарушение внешнего закона получает законное возмездие извне в ссылке и каторге, но внутренний грех гордости, отделивший сильного человека от человечества и приведший его к человекоубийству, - этот внутренний грех самообоготворения может быть искуплен только внутренним, нравственным подвигом самоотречения (11). Беспредельная самоуверенность должна исчезнуть перед верой в то, что больше {себя}, и самодельное оправдание должно смириться перед высшей правдой Божией, живущей в тех самых простых и слабых людях, на которых сильный человек смотрел как на ничтожных насекомых. В "Бесах" та же тема если не углублена, то значительно расширена и усложнена. Целое общество людей, одержимых мечтой о насильственном перевороте, чтобы переделать мир по-своему, совершают зверские преступления и гибнут позорным образом, а исцеленная верой Россия склоняется перед своим Спасителем. Общественное значение этих романов велико; в них {предсказаны} важные общественные явления, которые не замедлили обнаружиться; вместе с тем эти явления осуждены во имя высшей религиозной истины, и указан лучший исход для общественного движения в принятии этой самой истины. Осуждая искания самовольной отвлеченной правды, порождающие только преступления, Достоевский противо- --------------------------------------* Данилов - студент Московского университета, убивший и ограбивший ростовщика, имея при этом какие-то особые планы (10). [300] поставляет им народный религиозный идеал, основанный на вере Христовой. Возвращение к этой вере есть общий исход и для Раскольникова, и для всего одержимого бесами общества. Одна лишь вера Христова, живущая в народе, содержит в себе тот положительный общественный идеал, в котором отдельная личность солидарна со всеми. От личности же, утратившей эту солидарность, прежде всего требуется, чтобы она отказалась от своего гордого уединения, чтобы нравственным актом самоотвержения она воссоединилась духовно с целым народом. Но во имя чего же? Во имя ли того только, что он - народ, что шестьдесят миллионов больше, чем единица или чем тысяча? Вероятно, есть люди, которые именно так это и понимают. Но такое слишком уж простое понимание было совершенно чуждо Достоевскому. Требуя от уединившейся личности возвращения к народу, он прежде всего имел в виду возвращение к той истинной вере, которая еще хранится в народе. В том общественном идеале братства или всеобщей солидарности, которому верил Достоевский, главным было его религиозно-нравственное, а не национальное значение. Уже в "Бесах" есть резкая насмешка над теми людьми, которые поклоняются народу только за то, что он народ, и ценят православие как атрибут русской народности (12). Если мы хотим одним словом обозначить тот общественный идеал, к которому пришел Достоевский, то это слово будет не народ, а {Церковь}. Мы верим в Церковь как в мистическое тело Христово; мы знаем Церковь также как собрание верующих того или другого исповедания. Но что такое Церковь как общественный идеал? Достоевский не имел никаких богословских притязаний, а потому и мы не имеем права искать у него каких-нибудь логических определений Церкви по существу. Но, проповедуя Церковь как общественный идеал, он выражал вполне ясное и определенное требование, столь же ясное и определенное (хотя прямо противоположное), как и то требование, которое заявляется европейским социализмом. (Поэтому в своем последнем дневнике Достоевский и назвал народную веру в Церковь нашим русским социализмом (13).) Европейские социалисты требуют насильственного низведения всех к одному чисто материальному уровню сытых и самодовольных рабочих, требуют низведения государства и общества на степень простой экономической ассоциации. "Русский социализм", о котором говорил Достоевский, напротив, {возвышает} всех до нравственного уровня Церкви как духовного братства. [301] хотя и с сохранением внешнего неравенства социальных положений, требует одухотворения всею государственного и общественного строя чрез воплощение в нем истины ч жизни Христовой. Церковь как положительный общественный идеал должна была явиться центральной идеей нового романа или нового ряда романов, из которых написан только первый - "Братья Карамазовы"*. Если этот общественный идеал Достоевского прямо противуположен идеалу тех современных деятелей, которые изображены в "Бесах", то точно так же противуположны для них и пути достижения. Там путь есть насилие и убийство, здесь путь есть {нравственный подвиг}, и притом двойной подвиг, двойной акт нравственного самоотречения. Прежде всего требуется от личности, чтобы она отреклась от своего произвольного мнения, от своей самодельной правды во имя общей, всенародной веры и правды. Личность должна преклониться перед народной верой, но не потому, что она народная, а потому, что она истинная. А если так, то, значит, и народ во имя этой истины, в которую он верит, должен отречься и отрешиться ото всего в нем самом, что не согласуется с религиозною истиной. Обладание истиной не может составлять привилегии народа так же, как оно не может быть привилегией отдельной личности. Истина может быть только {вселенскою}, и от народа требуется подвиг служения этой вселенской истине, хотя бы, и даже {непременно, с} пожертвованием своего национального эгоизма. И народ должен оправдать себя перед вселенской правдой, и народ должен положить душу свою, если хочет спасти ее. Вселенская правда воплощается в Церкви. Окончательный идеал и цель не в народности, которая сама по себе есть только служебная сила, а в Церкви, которая есть высший предмет служения, требующий нравственного подвига не только от личности, но и от целого народа. Итак, Церковь как положительный общественный идеал, как основа и цель всех наших мыслей и дел и всенародный подвиг как прямой путь для осуществления этого идеала - вот последнее слово, до которого дошел Достоевский и которое озарило всю его деятельность пророческим светом. - --------------------------------------* Главную мысль, а отчасти и план своего нового произведния Достоевский передавал мне в кратких чертах летом 1878 г. Тогда же (а не в 1879 г . как сказано но ошибке в воспоминаниях H. H. Страхова) мы ездили в Оптину Пустынь (14).
Читать дальше