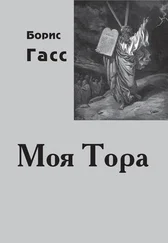Блин коровий твоему Хансу. Пошел отсюда.
Он нашел возле яслей мальчишку Педерсенов.
Пошел к черту.
Папа натянул одеяло. Стал пробовать, какой у него вкус во рту.
Мальчишка замерз, как насос. Ханс трет его снегом. Принес его на кухню.
Педерсен?
Нет, па. Мальчишка Педерсенов. Мальчик.
Из яслей украсть нечего.
Не красть, па. Он там лежал, замерз. Ханс нашел его. Он там лежал, а Ханс его нашел.
Отец засмеялся.
Я в яслях ничего не прятал.
Ты не понял, па. Мальчишка Педерсенов. Мальчишка…
Хрен ли там не понять.
Папа поднял голову и выпучился и жевал зубами место, где раньше отращивал усы.
Хрен ли не понять. Не знаешь, что ли? Видеть его не хочу, Педерсена. Засцыха. Фермер херов. На что он мне. Чего он пришел-то? Катись к черту. И не возвращайся. Узнай, чего там на хрен. Дурак. И ты, и Ханс. Педерсен. Засцыха. Фермер херов. Не приходи больше. Катись. Мля. Пошел, пошел. Пошел.
Он кричал, сопел и сжимал кулак на подушке. Волосы у него на запястье были черные и длинные. Они загибались на рукав ночной рубашки.
Меня Ханс послал. Большой Ханс сказал…
Блин коровий твоему Хансу. Он еще хуже коровий блин, чем ты. Толстый вдобавок. А? Я его проучил и тебя проучу. Пошел. Или горшок бросить?
Он совсем было хотел встать, и я выскочил, хлопнув дверью. Он уже понял, что не сможет уснуть от злости. Тогда он начинал швыряться. Однажды погнался за Хансом и вывалил через перила горшок. Папа хворал животом в этот горшок. Ханс взял топор. Он даже вытираться не стал и успел порубать часть папиной двери, пока не остыл. Остыл бы, может, и раньше, но папа там заперся и хохотал так, что трясся весь дом. Когда папа вспоминал горшок, он становился ужасно веселым. Я чувствовал, что это воспоминание живет в них обоих, шевелится у них в груди, как смех или рычание,
– рвется на волю, как зверь. Пока я шел вниз, было слышно папину ругань.
Ханс положил на грудь и живот мальчишке парные полотенца. И растирал ему ноги и руки снегом. Талая вода и вода с полотенец стекала на стол, тесто под мальчишкой размокло и липло к спине и заду.
Он не хочет просыпаться?
Что там папа?
Когда я уходил, он проснулся.
Что сказал? Ты принес виски?
Сказал: блин коровий Хансу.
Не нахальничай. Ты спросил его про виски?
Да.
Ну?
Он сказал: блин коровий Хансу.
Не нахальничай. Что он собирается делать?
Спать, похоже.
Ты достань мне виски.
Сам пойди. Топор возьми. Папа топоров до смерти боится.
Слушай меня, Йорге. И не нахальничай. Мальчишка сильно замерз. Не волью в него виски – может умереть. Хочешь, чтоб он умер? Хочешь? Так поди к отцу и принеси виски.
Плевал он на мальчишку.
Йорге.
Плевал он. Совсем плевал. И мне неохота, чтобы голову разбили. Ему плевать, а мне неохота, чтоб в меня говном кидались. Ему на все плевать. Ему бы только виски было и чтобы щель в своей морде залить. Напиться как свинья – больше ничего не надо. А на остальное ему плевать. На все. И на мальчишку Педерсенов. Фермер херов. И на мальчишку его.
Я возьму виски, сказала мама.
Я бы Ханса туго завел. Я уж готов был отпрыгнуть, но когда мама вызвалась взять виски, он удивился не меньше меня и осел. Мать не подходила к отцу, когда он отсыпался. Давно уже. Много лет. Утром, когда она мыла лицо, она первым делом видела шрам на подбородке, куда угодила подкова его башмака, – и, может, видела, как он опять летит, выпуская на лету грязный носок. Ей это, наверно, не труднее было вспомнить, чем Хансу вспомнить, как он бросился за топором, весь заляпанный папиным кислым желтым поносом.
Нет, ты не ходи, сказал Большой Ханс.
Пойду, раз виски нужно.
Ханс покачал головой, но не стал ее останавливать – и я тоже. Если бы остановили, пришлось бы идти одному из нас. Ханс еще тер мальчишку снегом… тер… тер.
Принесу снегу, сказал я.
Я взял ведро и лопату и отправился на крыльцо. Не знаю, куда ходила мама. Я думал, она сходила наверх, и ожидал это услышать. Она удивила Ханса не меньше, чем меня, сказав, что сама сходит, а потом еще раз удивила – вернувшись чуть не сразу: потому что, когда я принес снег, бутылка с тремя белыми перьями на наклейке была уже тут как тут и Ханс сердито держал ее за горлышко. Он подозрительно и осторожно шарил в ящике, а бутылку держал, как змею, на вытянутой руке. Он был ужасно зол, потому что ожидал от матери чего-то решительного, даже героического… я понимаю его… понимаю: иногда мы думали одинаково; а маме ничего такого и в голову не приходило. С ней никак нельзя было отыграться. И это не то что тебя надувают на ярмарке. Там они всегда норовят, и ты этого ждешь. И Ханс отдал маме что-то от себя, – в нас обоих это было, когда мы думали, что она пойдет прямо к папе, – отдал что-то важное, какое-то хорошее чувство; но она не знала, что мы ей его отдали, и поэтому вернуть его было не просто.
Читать дальше



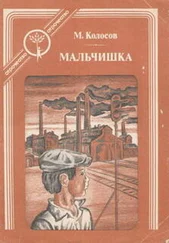

![Кристина Генри - Потерянный мальчишка [Подлинная история капитана Крюка] [litres]](/books/408675/kristina-genri-poteryannyj-malchishka-podlinnaya-ist-thumb.webp)