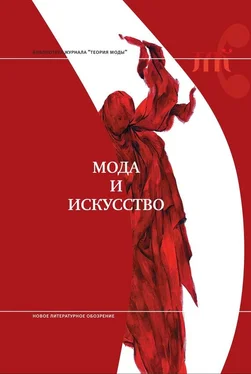С течением времени стало еще более очевидно, что за стремлением моды завязать тесные отношения с искусством стоят ее коммерческие интересы. Как отмечает Крис Таунсенд [125], в этом отношении симптоматично появление множества модных магазинов в нью-йоркском районе Сохо, который прежде считался районом художников и славился частными галереями. И то, что дизайн моделей, выставленных в витринах бутиков, зачастую напоминал произведения актуального искусства, выставлявшиеся в галереях по соседству, было отнюдь не случайным совпадением, но частью хорошо продуманной политики некоторых кутюрье. Известны случаи, когда интерьеры модных магазинов копировали интерьеры художественных галерей; иногда кутюрье нанимали тех же архитекторов и дизайнеров, услугами которых пользовались галеристы. Бывало, что они и художникам предлагали выставлять свои работы прямо в торговых залах, тем самым еще больше размывая границы между модой и искусством.
Модельеры неоднократно напрямую цитировали известные произведения искусства – достаточно вспомнить платья «Мондриан», созданные Ивом Сен-Лораном в 1965 году, – а также приглашали художников демонстрировать свои модели, например Трейси Эмин участвовала в показах Вивьен Вествуд [126]. Примеры сотрудничества модельеров с художниками все чаще можно найти на страницах модных журналов [127]; и более того, модные дома размещают свою рекламу в специализированных искусствоведческих изданиях, а модные «глянцевые» журналы все чаще публикуют статьи о художниках (в частности, британский Vogue, целиком посвятивший свой двухтысячный выпуск теме «Мода встречается с искусством» (Fashion Meets Art)) [128]. И хотя, по мнению Таунсенда [129], было бы ошибкой расценивать стремление моды сблизиться с искусством только как циничную маркетинговую уловку, я позволю себе добавить, что столь же наивно было бы отрицать наличие стоящего за этим коммерческого интереса.
Заключение
Итак, подведем некоторые итоги наших рассуждений. Как известно, кантианская философская традиция отказывается признавать эстетическую ценность моды; в то же время, как мы могли убедиться, подход некоторых теоретиков (в частности, Энн Холландер), попытавшихся обращаться с модой как с искусством, также оказался далеко не безупречным, поскольку по сути он поддерживает все ту же кантианскую традицию, не допуская в сферу эстетического рассмотрения телесные и социальные аспекты моды. Формальный эстетический анализ не позволяет постичь всю глубину скрытых в произведении искусства значений, даже когда речь идет о живописи или скульптуре; и он тем более недостаточен для истинного понимания моды, которая не может существовать в отрыве от тела, как и отказаться от своей причастности к миру бизнеса и коммерции.
Возможно, было бы куда логичнее не отстаивать право моды называться искусством, связав себя по рукам и ногам постулатами кантианской философии, а для начала переосмыслить и пересмотреть ограниченные представления об эстетике. Достаточно выйти за пределы узкой концепции, согласно которой эстетическое суждение рождается лишь из незаинтересованного созерцания форм, и принять во внимание ту сферу, где источником наслаждения является наш повседневный опыт соприкосновения с красотой, и мы сможем отказаться от «традиционного пути» и признать факт существования эстетической стороны моды, не подгоняя представления о моде под классическое определение понятия «искусство».
Как утверждает Ричард Шустерман, мы должны «возродить более широкие представления об эстетическом переживании и эстетической ценности, с тем чтобы обновить энергетический потенциал искусства и найти новые направления, которые выведут прогресс за пределы установленных в соответствии с традицией современных границ раздробленного на отдельные области мира изящных искусств» [130]. В противоположность последователям Канта, не допускающим даже мысли о том, что эстетическое переживание может быть хоть в чем-то сродни чувственному удовольствию, Шустерман считает подобные чувства не антитезой, но существенной частью эстетического переживания. Когнитивные процессы играют решающую роль в восприятии формы и содержания, но это ничуть не умаляет значимости сильных чувств и ярких впечатлений, без которых невозможно полноценное эстетическое переживание. Если их нет, человек вряд ли захочет глубже постичь произведение, являющееся объектом эстетического переживания, у него не будет мотивации. Как пишет Шустерман, «утверждение, что эстетическое переживание должно подразумевать нечто большее, нежели непосредственный феноменологический опыт и живое чувство, не исключает того, что такое яркое в своей непосредственности чувство составляет самую суть эстетического переживания» [131]. Следуя идеям Дьюи, он дает более широкое определение понятию «эстетическое переживание» – в его понимании это обостренное чувство, являющееся результатом «интеграции всех составляющих обычного переживания во всепоглощающее, находящееся в процессе развития целое» [132]. Таким образом, вопреки кантианской концепции, категорически изолировавшей сферу эстетического переживания от сферы повседневного опыта, эстетический отклик (как это называет Дьюи) – это продолжение повседневного опыта, он возникает всего лишь за счет усиления и более глубокой интеграции чувств, уже присутствующих в обыденной жизни. Соответственно, подобного рода переживания можно найти не только в возвышенном мире изящных искусств, но и далеко за его пределами, поскольку их порождает любое явление, способное привести чувства в состояние гармоничного единства.
Читать дальше