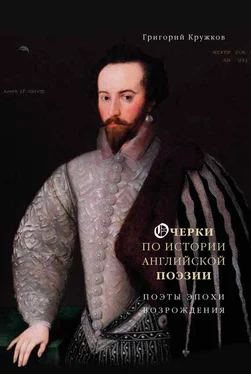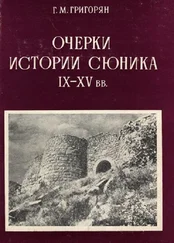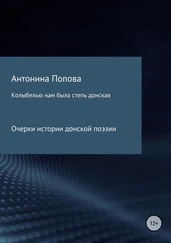Обратите внимание на последние слова, характеризующие платоническую любовь у Фичино: «чужда преступной дерзости». Не знаю, как это по-гречески, но по смыслу это именно то чувство, которое питает Автор к своему юному Другу.
Сонеты Шекспира, датируемые шекспироведами примерно 1592–1595 годами (хотя некоторые из них могли появиться позже) писались, как мы видим, под явным влиянием философии неоплатонизма. Известно, что «Комментарий к “Пиру” Платона» был первой книгой Марсилио Фичино, переведенной на английский язык. Сами диалоги Платона, переведенные Фичино на латынь, были к тому времени давно доступны образованным англичанам. При этом необязательно, что Шекспир сам усердно изучал Платона и трактаты итальянских гуманистов; он мог получить их идеи из вторых рук – для гения этого достаточно [68].
Итак, не житейская история о том, как друг отбил невесту у поэта, и не лирический дневник, в который автор заносит свои дневные впечатления и раздумья, а аллегорический рассказ об Афродите небесной и Афродите пошлой – вот основа и план задуманного Шекспиром сюжетного цикла.
Точно так же, как «Королева фей» – не приключенческий роман, а грандиозная аллегория, прославляющая королеву во всех ее ипостасях – целомудренной красоты, девы-воительницы, средоточия мудрости и т. д.
Так же, как «Астрофил и Стелла» Филипа Сидни – отнюдь не дневник влюбленного (каким он представляется неискушенному читателю), а аллегорическое повествование о восхождении любящего по ступеням любви, надежды и страдания к духовному совершенству, к высшей Истине и Красоте. Сам Сидни подчеркивал, что реальность – лишь предлог для поэзии, что «искусство мастера заключено в Идее – прообразе его труда». Он подчеркивает, что поэтом движет именно Идея, и от воображения зависит совершенство творимого им [69].
Перипетии сюжета, угадываемые в «Сонетах» Шекспира, лишь канва для аллегории, чей смысл утаен от взглядов обыкновенного читателя, но открыт взору избранных философов и истинных влюбленных.
Роберт Фрост сказал однажды, что поэзия начинается с удовольствия, а кончается мудростью.
Ту же формулу можно применить к любви, о которой рассказывают нам «Сонеты» Шекспира. Она начинается с восхищения красотой, проходит всё, что суждено пройти любви: сомнения, размолвки, разлуки, обиды, печали, примирения – и заканчивается обретением – если не мудрости, то более глубокого постижения себя и мира.
Мы не знаем, какое отношение имеют сонеты к биографическим обстоятельствам Шекспира. А если бы и «знали», то лишь попали бы в капкан к этому знанию. Потому что связь между творчеством и стихами в тысячу раз сложнее, чем мы предполагаем. Эта связь непроницаема для постороннего взгляда, она не до конца понятна даже самому автору: любое стихотворение содержит в себе опыт всей жизни поэта.
Интонация шекспировских сонетов столь доверительна, тон так верно взят, что кажется, поэт исповедуется перед нами в самом своем заветном, сокровенном. Однако встречаются и такие сонеты, автор которых как будто решает какую-то риторическую или метафорическую задачу и его главная цель – свести концы с концами. Тут неустранимое противоречие; и недаром Уильям Вордсворт пишет, что в сонетах Шекспир «открыл нам свое сердце», но в другом месте тот же Вордсворт отзывался о них иначе:
«Их главные недостатки – однообразие, скучность, вычурность и нарочитая темнота».
Вордсворту вторит один из влиятельнейших критиков той эпохи, Уильям Хэзлит:
«Если бы Шекспир не написал бы ничего, кроме сонетов ‹…›, он был бы помещен в разряд холодных, искусственных писателей, не обладающих ни настоящим чувством природы, ни подлинной страстью».
В чем же тут дело? Думаю, точнее всех сказал двадцатидвухлетний Джон Китс в письме другу:
«Одна из трех книг, которые сейчас со мной, – стихотворения Шекспира: никогда раньше я не находил столько красоты в его сонетах – они полны прекрасного, сказанного как бы нечаянно – по ходу вымучивания очередного концепта [70]( Китс – Рейнольдсу , 22 ноября 1817 г.».
Китс (во многом ученик Шекспира, но зрячий и проницательный) схватывает суть дела. Искусство писать сонеты в XVI веке сводилось к искусству придумывать сложные поэтические ходы или метафоры (концепты; по-итальянски: кончетти ). Даже не придумывать, поскольку к тому времени всё уже было придумано, – а выбрать из общего «депо метафор» ту, что подходит к случаю, и обработать ее под себя. Это отчасти похоже на древнерусскую традицию иконописи: за границы канона не выйдешь, зато можно проявить свою индивидуальность на уровне исполнения. Романтики (Вордсворт, Хэзлит и другие), которые выступали против всех литературных канонов и условностей, конечно, отвергали искусственность традиционного сонета, все эти приемы, которые казались им (и действительно были) ходульными и безнадежно заезженными. Но в том-то и дело, что гениальный художник, работая внутри канона, непреднамеренно – «нечаянно», как говорит Китс, – творит прекрасное и очень личное: то, что отличает работу Шекспира (или, скажем, Андрея Рублева) от их современников.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу