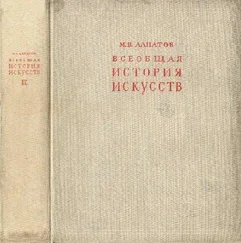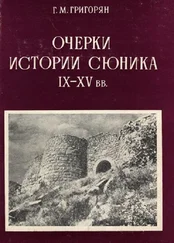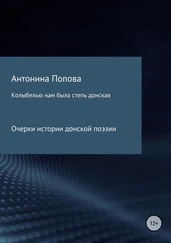No use of lanterns; and in one place lay
Feathers and dust, today and yesterday.
Почему ему запомнились именно эти строки, а не какие-нибудь другие, более яркие и парадоксальные? На этот простой, казалось бы, вопрос трудно ответить более или менее убедительно. Но если предположить, что Джонсон впервые услышал эти стихи осенью 1597 года, только-только вдохнув воздуха свободы, то понятно, что он мог особенно остро среагировать на образ, напомнивший ему о тюремных днях, неотличимых один от другого, сваленных в кучу, как труха и перья. Его могло поразить, насколько его собственные тюремные ощущения совпадают с чувством, испытанным Джоном Донном на борту заштиленного корабля [141].
В то время когда Донн вернулся в Лондон, история с «Собачьим островом» была еще свежей новостью, и ему наверняка захотелось подробнее разузнать о пьесе и о последствиях. Притом у него появилась прекрасная возможность услышать все из первых, то есть Беновых, уст. Возможно, тогда они и познакомились. Джонсона должно было заинтересовать хронологическое совпадение новых стихов Донна: в послании «Шторм», полном тюремно-виселичных аллюзий, описывается реальный шторм, который пережил Донн в июле 1597 года (как раз когда Джонсона арестовали), а послание «Штиль» относится к сентябрьским дням плавания Донна (когда Джонсона отправили «на отсидку» в тюрьму Маршалси).
Зная историю Джонсона и обращаясь к нему в числе прочих своих читателей, Донн, естественно, мог вставить в элегию эту фразу об Англии, как об острове-тюрьме, «где водятся только скоты и разные собаки». Это дает основания предполагать, что элегия «Аромат» была написана не раньше чем в ноябре 1597 года, и, вероятно, не намного позже этой даты. Мы можем указать на еще один немаловажный эпизод, который связывает стихотворения Донна с событиями жизни Джонсона. И связующий элемент снова – тюрьма.
Второй раз Бена Джонсона арестовали в сентябре 1598 года за убийство на дуэли. Его приговорили к смертной казни, но чудом ему удалось избежать петли, испросив «привилегии духовенства» (benefit of clergy). В те времена преступник при определенных обстоятельствах мог спасти себе жизнь, доказав свою грамотность. Ему давали прочесть по-латыни так называемый «виселичный псалом» – обычно это было начало 51-го псалма, мольба к Господу о прощении. Так комментаторы объясняют строки 11–16 (в переводе 13–18) второй сатиры Донна, где дан портрет некоего поэта:
Один (как вор за миг до приговора
Спасает от петли соседа-вора
Подсказкой «виселичного псалма»)
Актеров кормит крохами ума,
Сам издыхая с голоду, – так дышит
Органчик дряхлый с куклами на крыше.
Конечно, Донн вполне мог воспользоваться и общеизвестными фактами, не имея в виду никого конкретно, но если поэт пишет для узкого круга (как было с Донном), психологический закон велит там, где возможно, делать намеки на друзей и знакомых. Бен Джонсон, во первых, спас себе жизнь чтением; во-вторых, он писал пьесы, кормя актеров крохами своего ума. Следовательно, вышеприведенный пассаж содержит двойной намек на Бена. Можно представить, как он хохотал, слушая про «органчик дряхлый с куклами на крыше». Чтение могло происходить в какой-нибудь таверне – например в «Русалке», где Джонсон любил встречаться с друзьями.
Литературоведы обычно подчеркивают, что Донн не желал публиковать свои стихи; но суть в том, что он вряд ли мог это сделать, если бы даже захотел: на рубеже столетий церковная цензура год от года становилась все более жесткой. В 1599 Архиепископ Кентерберийский и Епископ Лондонский выработали закон, запрещавший издание сатирических стихов вообще, с приложением списка книг, предназначенных к сожжению. В это же время они постановили, чтобы «впредь ни сатир, ни эпиграмм не печатать». Слишком вольные стихи Донна никак не могли бы проскочить цензурный барьер. Даже в посмертное издание стихотворений Донна 1633 года некоторые элегии не вошли – их не разрешили печатать.
В то время кабаки и таверны Лондона кишели доносчиками. Не случайно в «Приглашении к обеду» Джонсон обещает отдых от шпионов в качестве особого угощения для друзей:
No shall our cups make any guilty men;
But, at our parting, we well be, as when
We innocently met. No simple word
That shall be utter’d at our mirthful board,
Shall make us sad next morning: or affright
The liberty, that we’ll enjoy tonight.
[Наши чаши никого из нас не сделают преступником, и мы разойдемся так же невинно, как собрались. Никакое простодушное слово, вырвавшееся за веселым столом, не заставит нас раскаиваться поутру и не спугнет непринужденности нашей сегодняшней беседы.]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу