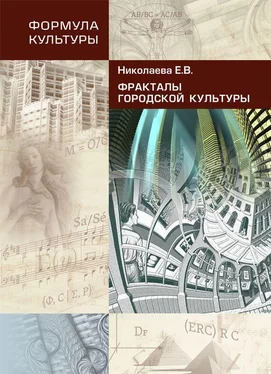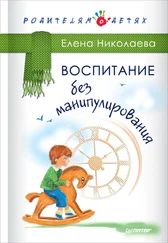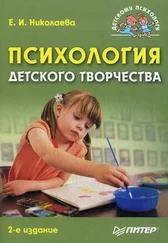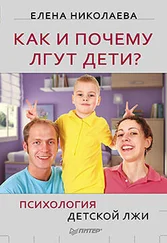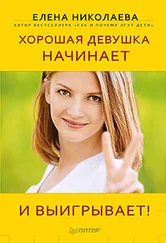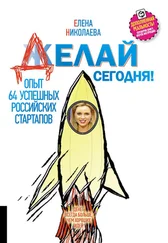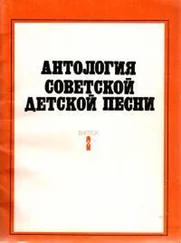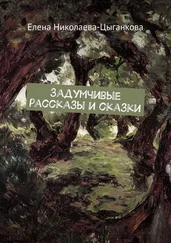В 1990-х гг. идеи фрактальности пересекли концептуальные границы и терминологические «рвы» естественнонаучного дискурса, и «фрактал» превратился в одно из наиболее популярных понятий в (пост)постмодернистском исследовательском поле. В определенном смысле фрактальная концепция начала претендовать на парадигмальный статус в науке нового столетия: «фракталы как математические объекты получают онтологический смысл и становятся элементами системы нелинейно-динамической картины мира» [6]. В гуманитарном дискурсе возникает вопрос об очередной научной революции и переходе к фрактальной парадигме и фрактальной картине мира [7]. В любом случае, невозможно не признать, что современная научная ситуация соответствует замечанию Томаса Куна, что на определенном этапе «требуется новый словарь и новые понятия для того, чтобы анализировать события» [8]. И этот новый словарь, похоже, дает фрактальная геометрия. Фрактальная геометрия, как утверждает М. Барнсли, – это новый язык, и «как только вы научитесь говорить на нем, вы сможете описать форму облака так же точно, как архитектор может описать дом» [9]. Действительно, фрактальные формулы и алгоритмы дали возможность преодолеть схематическую условность математического моделирования природного и, в определенной степени, социокультурного мира. Неожиданно многие нерегулярные объекты и динамические процессы предстали как результат строгих функциональных зависимостей, а их визуализации перестали восприниматься как хаос и случайное нагромождение форм и траекторий. Стало ясно, что понятие целостного феномена должно, по меньшей мере, рассматриваться с позиций нового холизма, в котором роль частей, составляющих целое, имеет значимую концептуальную корреляцию с этим целым.
Очевидно, понятие фрактальности положило начало формированию новой научной парадигмы и инициировало «переключение гештальта на сборку нового понятия, на распознавание и интерпретацию фрактальных структур в конкретных познавательных контекстах» [10]. С другой стороны, в современном культурном пространстве, которое российский философ В. В. Тарасенко называет миром IV (миром медиа и цифровой культуры), также возникает особый «фрактальный нарратив» как способ создания жителем мира медиа, т. н. «Человеком Кликающим», повествований, концептов, познавательных культурных практик [11].
Американский архитектор Джеймс Хэррис, работающий с фрактальными пространственными формами, констатирует: «Когда к вам приходит осознание фрактальности, вы видите мир в другом свете. Вместо того, чтобы наблюдать мир с редукционистской точки зрения, где вещи являются обособленными и отличными друг от друга, вы воспринимаете и понимаете мир как часть некоторого большего целого» [12]. Пожалуй, именно осознание универсального принципа самоподобия, распространяющегося на весь природный и социальный универсум, является главным содержанием начинающейся «фрактальной» научной революции.
В настоящее время фрактальная оптика видения и теоретико-методологические исследовательские подходы, основанные на фрактальной геометрии, распространились на все сферы культуры и общества, включая архитектуру [13], изобразительное искусство и литературу [14], сетевые коммуникации [15]и т. д. Концепт фрактальности одинаково эффективно используется как в дизайне текстильных узоров [16]и при выявлении семиотических уровней рекламных сообщений [17], так и для анализа исторической динамики социально-политических процессов [18]и содержания культурного (бес)сознательного [19].
При этом город и его социокультурные репрезентации – от архитектуры отдельного здания до предметно-материальной данности и виртуальных образов города – наиболее зримо проявляет фрактальные связи культуры на физическом, ментальном, гносеологическом и онтологических уровнях.
Так, И. А. Добрицына, известный российский специалист по теории архитектуры, в своих исследованиях отмечает, по существу, концептуально-фрактальный характер архитектуры по отношению к культурной картине мира: «структура архитектурного произведения может быть рассмотрена как интуитивный феноменальный аналог картины реальности, каковой она предстает в философии современной науки, в современной космологии» [20]. Тем более весь город в целом, в своей реальной и мифологической топологии и социокультурной организации, предстает как фрактальный паттерн национальной культуры, ее космогонической основы и социально-политического бытия. Действительно, город – это не просто диахроническое нагромождение форм и кажущееся хаотическим пространство социокультурных инсталляций и деконструкций; в первую очередь, «город воспроизводит модель мира данной культуры, делает видимой иерархическую структуру космоса и уровни мироздания» [21].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу