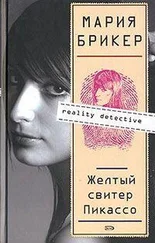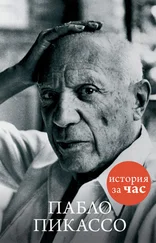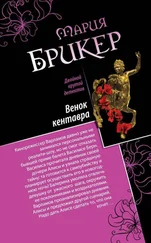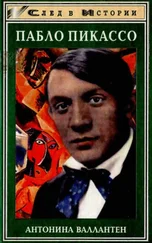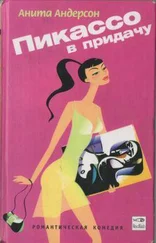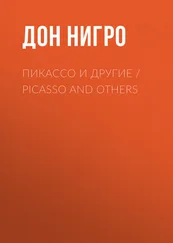В тот вечер во втором отделении программы выступала группа эквилибристов: три нагих мускулистых тела, которые складывались в замысловатые и рискованные фигуры. Когда несколько дней спустя я пришел к Пикассо, он указал мне на несколько картин, стоящих лицом к стене, и сказал: «Сейчас я вам кое-что покажу… Смотрите…» Это были те самые эквилибристы! Я застал Пикассо в момент вдохновения! Увиденное было тем более удивительно, что я сам – то ли в тот же вечер, то ли на следующий день – вернулся в Медрано и сфотографировал акробатов, не подозревая, как они понравились Пикассо… Плавные пируэты тел в разноцветных лучах света, хрупкая и дерзкая архитектура их композиций, которые ломались, едва выстроившись в пространстве, – все это произвело на художника такое впечатление, что он сделал целую серию рисунков… На первых полотнах атлеты были очень узнаваемы, но постепенно их фигурки становились все менее отчетливыми, а композиция все более плотной и обнаженной. В первый раз мне довелось видеть, как, в поисках более глубокого сходства, Пикассо очищает сюжет, сохраняя лишь главные черты – знаки. Первое полотно этой серии было почти абстрактным – из-за смелой транспозиции. В результате на первый план вышла своеобразная атмосфера цирка, со светящимся пятном арены, сверкающими на куполе шапито звездами и скрытой в полумраке публикой. Что же до группы акробатов, то она свелась до символа, до идеограммы, вибрирующей в световом пучке прожекторов. [11]
* * *
Некоторое время спустя после нашей поездки в Буажелу и вечера, проведенного в цирке Медрано, я пришел на улицу Боеси. Госпожа Пикассо отвела меня в сторону: «У нас нет фотографий Пауло, – сказала она. – Он боится фотоаппарата и начинает плакать… Теперь, когда он к вам уже привык и видел, как вы работаете, я надеюсь, все обойдется без рыданий…» Я исполнил ее просьбу. Тогда же мне удалось сделать и портрет Пикассо. В ту пору, снимая кого-то, я делал это обычно в единственном ракурсе. Мне казалось – не знаю, был ли я прав или нет, – что, сосредоточившись на чем-то одном, я сумею лучше схватить характер, чем если бы я делал несколько десятков снимков, как это обычно делают теперь. Съемки происходили в одной из комнат, в глубине квартиры, где фоном служила «Ядвига», стоявшая прямо на полу, без рамы, прислоненная к камину. Руссо изобразил ее в темном платье на фоне задрапированного тяжелой шторой окна, за которым виднелась какая-то крепость. Это полотно Пикассо нашел у одного торговца картинами году в 1908-м, открыв таким образом для себя творчество Таможенника Руссо. Ядвига, красивая учительница-полька, была в некотором смысле музой его наивного искусства: единственная женщина, настолько преданная художнику, что соглашалась позировать нагой. Он написал с нее Еву в раю: на полотне она стоит в профиль, протягивая руку к яблоку, которым ее соблазняет змей-искуситель. На другой картине она изображена дремлющей на красном канапе в колдовском лесу – в серебристом свете луны, среди растений с гигантскими светло-зелеными листьями, опутанными черными лианами и проткнутыми стрелами камыша, в пугающем соседстве с пантерами, обезьянами и птицами. Она внимает звуку флейты, на которой играет для нее некое таинственное существо… Это «Сновидение» – одно из самых странных произведений Таможенника Руссо, в ту пору своей жизни еще и поэта:
Ядвига, сладко заснув, видит дивный сон; она слышит звуки флейты, на которой играет заклинатель. Свет луны падает на цветы и зеленую листву, а ядовитые змеи прислушиваются к веселым напевам инструмента.
Мне хотелось, чтобы Ядвига, которая была главным украшением банкета, данного в честь Таможенника Руссо в Бато-Лавуар, присутствовала и на моем портрете.
Пикассо одет в серый костюм: мятый пиджак расстегнут, карманы отвисли, лацканы в пятнах. Под ним – синий пуловер на пуговицах и черный свитер. Воротник белой рубашки перекосился, свернувшись, как лепесток. Но я не замечал этих подробностей, словно загипнотизированный взглядом глядящих на меня в упор глаз… Их называли «агатовыми», «горящими как угли», «черными алмазами»… Однако, как я тогда понял, вопреки тому, что говорят и чему верят, нельзя сказать, чтобы они были чрезмерно большими или уж слишком сумрачно-темными. Его глаза кажутся огромными потому, что необычайно легко распахиваются в полную ширь даже над радужной оболочкой, открывая склеротические белки, в которых вспышками отражается свет. Такое расширение век и делает его взгляд непривычно пристальным, наэлектризованным и даже слегка безумным… К тому же сильно расширяющиеся зрачки, съедающие радужную оболочку глаз, обычно темно-карих, делают их почти черными. Это глаза человека, живущего в основном зрительными ощущениями и всегда готового удивляться. Подобное устройство глаз было у Гёте, чему не уставал удивляться Шопенгауэр.
Читать дальше