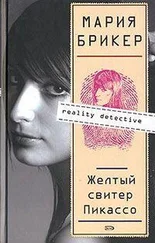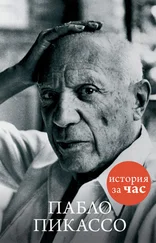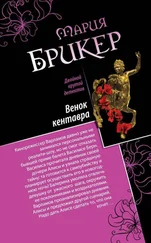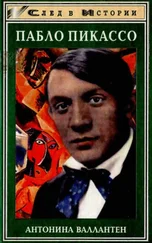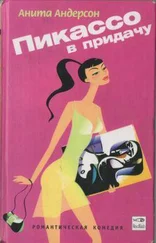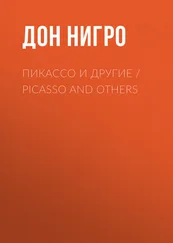К 1933 году сюрреализм представлял собой уже не дикий бунт, а вполне успешную революцию, зачинщики которой сумели взять власть. Обремененные новыми обязанностями, Андре Бретон и Поль Элюар были вынуждены заняться укреплением базы своей организации. Ради этого пришлось пойти на кое-какие уступки.
И если в «Минотавре» они еще могли поддерживать дух сюрреализма, то в других журналах пафос боевитости по сравнению с прежними временами пришлось снизить… Роскошное издание с тиражом в три тысячи экземпляров (тиражи остальных номеров не превышали полутора тысяч), недоступное для кошельков пролетариата, могло предназначаться только для презираемой сюрреалистами буржуазии, для узкого круга богатых и лощеных снобов, первых покупателей, меценатов и коллекционеров их произведений. Принять этот коллаборационизм, эту постыдную сделку с «капиталистами» – не значит ли это предать свои принципы, низко пасть в собственных глазах? Они долго обсуждали этот вопрос, прежде чем принять деловое предложение Скира и Териада. Но перед лицом вечной альтернативы сюрреалистов: «выйти на улицы с оружием в руках» или «вернуться в искусство» – Бретон и Элюар сделали выбор в пользу последнего. «Минотавр» давал им возможность не только избежать «разрыва со всем миром», но напротив – открыть широкий доступ их искусству и поэзии в этот мир, в том числе и великосветский.
Однажды утром в редакцию «Минотавра» явился человек лет сорока, высокий, с горделивой осанкой, одетый в хорошо сшитый костюм. На узком, свежем, слегка асимметричном лице мягко, ласково и даже чуть женственно светились голубые глаза, светлые и прозрачные, смотревшие из-под высокого лба. Вся его фигура излучала довольство, непринужденность и какое-то неизъяснимое изящество. В его улыбчивом взгляде, однако, сквозила покорность судьбе. Нас познакомили. Голос, глуховатый и негромкий, но прямой и волнующий, произнес имя: Поль Элюар. Он протянул руку, она дрожала… Позже от него самого я узнал, что, несмотря на цветущий вид, он тяжело болел и выжил лишь благодаря неистребимой воле к жизни… В семнадцать лет у него обнаружили пневмоторакс, и всю последующую жизнь, полную забот о здоровье, он не столько жил, сколько лечился.
Там же, в редакции «Минотавра», я познакомился с Андре Бретоном. Хотя он больше не носил ни монокля, ни зеленых очков, как в героическую эпоху сюрреализма, я его узнал. Правильные черты, прямой нос, светлые глаза и артистически богатая шевелюра, открывавшая лоб и кольцами ниспадающая на шею, наводили на мысль о сходстве с Оскаром Уайльдом, но принципиально иной гормональный фон делал внешность Бретона более энергичной и мужественной. Осанка, львиная посадка головы, бесстрастное выражение лица – серьезного, почти сурового, сдержанные, скупые, необычайно медленные жесты придавали его облику властность вождя, рожденного, чтобы завораживать и повелевать, но также чтобы судить и карать. Если Элюар напоминал мне Аполлона, то Бретон казался Юпитером во плоти и крови. И лишь гораздо позже, когда мы подружились, я понял, что он, человек непоколебимого спокойствия, вовсе не лишен чувства юмора. Однажды я провел несколько часов в доме № 42 по улице Фонтен, в его удивительном логове, наполненном талисманами, привезенными из Африки, масками из Океании, предметами редкими и странными. Сюрреалистические картины и скульптуры создавали необычную атмосферу в этом жилище, где он читал мне сказки Альфонса Алле, недавно возведенного в ранг непререкаемых авторитетов – гуру сюрреализма. Эти маленькие мелодрамы, очень смешные, но при этом злые, а то и просто жестокие, сохранились в моей памяти до сих пор. Бретон проигрывал роли всех персонажей, придавая особые краски каждой фразе, каждому слову. Как сейчас вижу, как он заговорщически подмигивает мне, а лицо его сияет от радости, что он может открыть мне обаяние черного юмора… В тот момент он был по-настоящему счастлив. Да, он мастерски владел искусством иронии, сарказма, едкой насмешки, служившим ему оружием мести, обращенной против других, однако я не думаю, что ему был ведом истинный юмор – искрящийся, улыбчивый, вездесущий, стряхивающий с мира чрезмерный пафос и фатализм. Он слишком серьезно относился к своей доктрине, к своему творчеству, к любому своему шагу, чтобы принять юмор, который – как и милосердие – рождается сам собой. В его жизни не было обстоятельств, в которых Бретон не воспринимал бы себя всерьез…
* * *
Согласно modus vivendi, принятому руководителями «Минотавра», сюрреалисты определяли в журнале отнюдь не все. Разумеется, они могли ставить в номер свои тексты, сюжеты, рисунки, но правом вето на чужое творчество отнюдь не обладали. Я помню один текст Мориса Рейналя под названием «Господь. Алтарь. Чаша», посвященный нескольким скульпторам и вызвавший жаркую дискуссию. Лоранс, Липшиц, Деспио нравились сюрреалистам не больше, чем Майоль или Бранкузи. Они ненавидели кубистов точно так же, как и фовистов. Пьер Реверди их не раздражал. [4]А Поль Валери, Рамю, Леон-Поль Фарг и другие вызывали определенную неприязнь.
Читать дальше