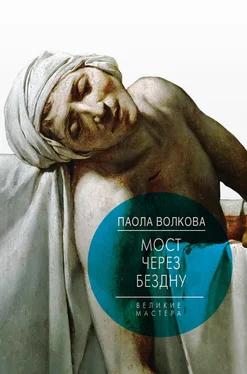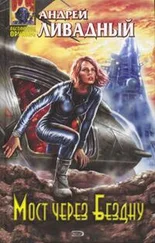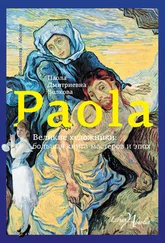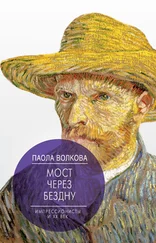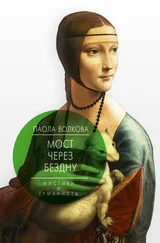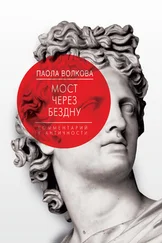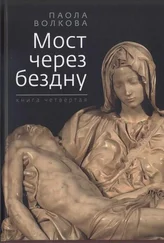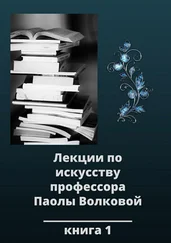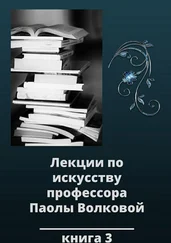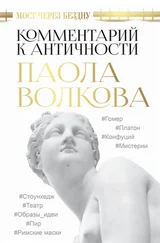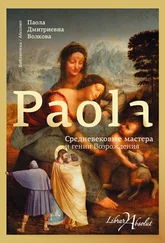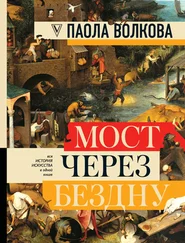А проводником внутрь этого поразительного мира является маленький мальчик, который стоит рядом с большой свечой. Это Хорхе Мануэль, сын Эль Греко. У него беленький платочек за поясом, и там написано, как его зовут и когда он родился – в 1578 году. Хорхе Мануэль не только проводник в этой картине, он вообще был помощником Эль Греко и, наверное, единственным его учеником. Он научился копировать работы своего отца, поэтому очень многие вещи Эль Греко мы видим в копиях Хорхе Мануэля, портрет которого нам оставил Эль Греко.
Этот мальчик смотрит на нас и делает указующий жест рукой – и мы проходим мимо этой картины столетиями, мы на нее смотрим, а этот мальчик соединяет будущее с очень-очень далеким прошлым, которое было прошлым и для него. Через этого мальчика Эль Греко выразил сочетание двух времен – времени будущего и времени прошлого. Он соединяет время реальное и время мистериальное, мифическое. Собственно говоря, границы между ними нет, или эта граница очень-очень тонка. Прошлое и будущее как бы соединяются между собой. Конечность человека относительна, жизнь вечная не кончается с реальной жизнью человека, она продолжается во времени. И вот в конце XVI века хоронят человека, жившего в начале XIV века. А запечатлевает эту картину Эль Греко, который вводит своего героя в будущее время. Ну кто бы знал графа Оргаса сейчас? Очень мало кто, если бы не Эль Греко.
Это картина очень сложного содержания, картина-роман, единственная у Эль Греко. Это картина многосюжетная, многопространственная. Она имеет и чисто мистический план – этот верхний тимпан, когда ангелы в золотых одеждах несут уже развоплотившуюся, уже полностью потерявшую плоть душу графа Оргаса к деисусному престолу. Там изображен вот этот деисусный чин: Спаситель в сверкающих одеждах, Богоматерь, Иоанн Креститель – заступники, адвокаты за нас на Страшном суде. И душа графа Оргаса предстает перед ними. Это некое видение – то, как представляет себе Эль Греко торжественный акт вручения души высшим силам.
После того как в 1588 году эта картина была выставлена в церкви Сан-Томе, она имела огромный успех у публики. Конечно, слава Доменико Теотокопулоса, Эль Греко, была невероятно велика, и он начал получать заказы, в основном заказы на портреты. Он стал очень знаменитым портретистом и оставил нам галерею своих современников. В том числе среди его портретов есть портрет великого инквизитора Испании, которого звали Ниньо де Гевара.
С Ниньо де Гевара историки связывают приезд Эль Греко в Толедо. Как будто Ниньо де Гевара, будучи молодым священником, приехал в Италию с какой-то специальной дипломатической миссией, там он увидал этого грека и просто влюбился в него. Он даже собирал его работы, именно он пригласил Эль Греко в Испанию. Но тот же самый Ниньо де Гевара стал великим инквизитором, который говорил одно слово: «Сжечь!». Его лицо вызывает ужас. Это лицо непреклонной фанатической жестокости. Глаза подчеркнуты огромными черепаховыми очками с петлями за ушами. И как великий инквизитор он хорошо понимал духовную неуловимость, внутренний бунт, очень глубокую прозорливость Эль Греко. И насколько известно, Эль Греко неоднократно вызывали на допрос в инквизицию, но в итоге он благополучно выходил оттуда. Почему так было, сказать очень трудно. Может быть, благодаря тому странному чувству, которое Ниньо де Гевара испытывал к Эль Греко. Вероятно, это то самое чувство, которое Сталину приписывается в отношении Булгакова: он слабость к нему испытывал, симпатию и интерес.
Представьте себе, какое огромное напряжение царило в атмосфере не только этого города, а вообще в Испании. С одной стороны, это время величайшего расцвета испанской культуры, время настоящего наступающего испанского Возрождения. А с другой стороны, это серьезная и жестокая работа испанской инквизиции. Это какой-то очень странный стык, и художник такой великой чувствительности, как Доменико Теотокопулос, чувствовал это сверхнапряжение всех духовных сил, ощущение жизни на грани, на какой-то очень тонкой грани между бытием и небытием… Вспомним Россию, Москву 1930-х годов. С одной стороны, необыкновенное соцветие писателей, поэтов и художников, а с другой стороны, круглосуточная работа НКВД. Так вот это то же самое. Только в России это по-другому выражалось: в России был Платонов, замечательные художники, писатели, такие как Олеша, Замятин, Бабель. Были театры, такие как театр Мейерхольда. В России была очень интенсивная духовная жизнь, огромное количество талантливых людей, невероятный расцвет театра, музыки. И ближе всего к этому ощущению внутреннего мира Эль Греко, наверное, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. У него то же самое чувство порога.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу