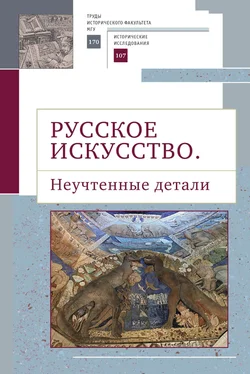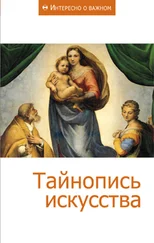Между тем отчетливо прописанный мотив розы на разных стадиях ее цветения в портрете Лопухиной дополняется едва заметным образом лилии в затененном пространстве у левого плеча модели. В монографии о В. Л. Боровиковском Т. В. Алексеева справедливо пишет, что «пейзаж в портрете Боровиковского складывается из нескольких самостоятельных мотивов». С одной стороны, он тонко передает особенности естественного ландшафта. С другой стороны (в данном случае буквально с другой стороны от модели), «в сельский пейзаж проникают идиллические мотивы парковой природы – склоненные над мраморным постаментом розы, бледная лилия в густой тени кустов – эти символы человеческой чистоты и добродетели, столь распространенные в искусстве и литературе этого времени» 112 112 Алексеева Т. В . Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII–XIX веков. М., 1975. С. 163.
. Действительно, белая лилия мыслилась неотъемлемым атрибутом целомудрия или чистоты 113 113 Эмблемы и символы. С. 35, № 102.
. В эмблематике она ассоциировалась с девизом: «Белизна ее не портится златом. Красота не повреждается богатством» 114 114 Там же. С. 100–101, № 116.
. Роза же, как видно выше, намекала на иные качества модели. К тому же сопоставление розы и лилии, при всем разнообразии их значений, так или иначе, учитывает эмблему «Пламенеющее сердце между лилиею и розою» с «подписью»: «Красота, чистота и любовь. Непорочность любви есть откровенность и чистосердечие» 115 115 Там же. С. 124, № 216.
. Причем на портрете цветы-символы не рядоположены фронтально, как на рисунке эмблемы, а располагаются один за другим. Розы тщательнейшим образом выписаны и пластически выявлены подобно расположенной рядом свободно свисающей в бездействии кисти руки модели. Лилия же едва обозначена и почти сливается с окружающей фигуру девушки затененной зеленью. Вряд ли это сопоставление явственно ощутимого и сокрытого случайно. Учитывая логику «флористического псевдонима», можно «послание» мастера прочитать следующим образом: очевидная телесная красота модели дополняется и обеспечивается ее добродетельностью и душевной красотой. Затененность лилии, скорее всего, намекает, в духе сентиментализма, на сокровенность этого мира, мира «внутреннего человека» по формуле, проговоренной в русской литературе лет за тридцать до создания портрета Лопухиной: «Уже нам зримые в лице твоем черты / Являют рай твоей душевной красоты» 116 116 Петров В. П. Посвящение Павлу Петровичу // Поэты XVIII века / Вступ. ст. Г. П. Макогоненко, подгот. текста и примеч. Н. Д. Кочетковой. Т. 1. Л., 1972. С. 342.
. Более явственно тема нравственного совершенства проступает в таком знаке как белое одеяние, в котором в эмблематическом опыте видится аллегория Добродетели 117 117 « Добродетель вообще, дочь истины, изображается в виде жены, облеченной в белую одежду…». – Эмблемы и символы. С. 31, № 68.
. Сближенное по пластической определенности и светлой тональности «доличное» и «личнóе» метафорически уподобляет фигуру мраморной статуе, заключающей в себе формулу античной гармонии. Она, в свою очередь, предполагает культ природного начала, согласуясь с пейзажным фоном. Ритмическое соответствие очертаний стебля лилии с наклоном головы модели, и всей ее фигуры с контурами ландшафта позволяет риторически связать изображенную со всем символическим потенциалом как этого цветка, так и других растительных «натурщиков».
В заключение заметим, что деталь в живописи этого времени, как и в других видах «знатнейших художеств», является неотъемлемой частью целого и подобно детали в архитектурном ордере занимает свое определенное заданное композиционными правилами место. Но, как и слово в риторике независимо от его места в иерархии смысловых ценностей, так и деталь в изобразительной сфере, теснейшим образом связаны с общим смыслом и могут его дополнять и корректировать. Так, она может подразумеваться самой программой, особенно под псевдонимом «и проч.», или быть частью обозначенного мотива «по умолчанию». Например, согласно программе для полотна на звание академика, Семен Щедрин должен был «представить полдень, где требуется скот, пастух и пастушка, частию лес, воды, горы, кусты и проч.» В окончательном варианте картины «Полдень (Вид в окрестностях озера Неми)» (около 1778, ГРМ) художник, с одной стороны, вводит сугубо бытовой мотив с нагруженными донельзя осликами, с другой «дополняет изображением руин и античной скульптуры, что придает произведению элегически-пасторальный облик» 118 118 Моисеева С. В. «…К лучшим успехам и славе Академии»: Живописные классы Санкт-Петербургской Академии художеств XVIII – первой половины XIX века. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 159.
. К тому же античная тема вполне соответствует отсылке к общезначимой классике – лорреновскому пейзажу, проступающему в композиции полотна Щедрина и характере трактовки темного силуэта крон деревьев на фоне предельно осветленного неба.
Читать дальше