Работа О. Тобрелутс «Нарцисс» тематизирует ее многолетнюю практику телепортаций своих портретных изображений в компьютерное зазеркалье. У И. Куксенайте на контекст нарциссического работает сама техника – процарапывание по стеклу волей-неволей обретает коннотации женственного и нетерпеливого: простого отражения мало, чтобы добраться до сути, нужно проскрести ногтями амальгаму. Е. Остров «растрирует» свои картины с изображением обнаженных эфебов: в этой демонстрации репродукционности тоска по оригиналу. Даже С. Бугаев (Африка), присутствие которого в Академии эпизодично, отдает дань нарциссическому контексту. В 1991-м появляется его работа без названия. На фоне коллажа из сцен мирной жизни традиционно по-советски бодрый матрос в бескозырке. Казалось бы, сочетание телесно-объемного фотоизображения с плоским коллажным фоном должно дать ощущение плакатной ходульности и создать типичную пародийную отсылку к агитпропу. Но нет, речь идет о другом. Глаза моряка художник покрывает марлевой накладкой. Не повязкой – это можно было бы мотивировать: героическая рана и т. д. Нет, вполне абсурдистская, нефункциональная накладка. Думаю, смысл здесь другой. Мифология рассматривания моряка на фотке в газете, тиражируемая во множестве фильмов, носит нарциссический характер: герой любуется сам собой или предполагает отражение в любящих глазах как жених, первый парень на деревне и пр. Накладка прерывает этот процесс или фильтрует его.
В уже цитированной выше книге Movements in Art since 1945 Э. Люси-Смит писал, что «неоклассицистическое движение было художественным направлением, в котором главный интеллектуальный концепт предшествовал художественной практике». Это не совсем так. Среди художников, считающихся коренными «академиками», многие развивались вне концепта. Вполне самостоятельно. Близость их к движению окказиональна, то есть зиждется не на верности программе, а на дружеских связях и эстетическивкусовых предпочтениях, например, на неудовлетворенности положением дел в современном искусстве. Думаю, именно такой характер носили отношения активных деятелей Новой Академии и Г. Гурьянова, человека и художника абсолютно внесистемного. Тем не менее в представлении широкой аудитории зачастую именно гурьяновские работы маркируют неоакадемическое движение. В чем причина подобной аберрации? На мой взгляд, все просто: полуобнаженные атлеты-куросы, акцентированное рисовальное начало (долгожданно мощный рисунок ассоциируется со «школой») – что это в глазах публики, как не академизм! Однако, если воспользоваться столь близкой художнику морской аналогией, Г. Гурьянов демонстрировал командную форму Новой Академии скорее на берегу. В плаванье же он ходил в одиночестве и своим кораблем управлял сам. Как художник Г. Гурьянов обратил на себя внимание акрилами, синтезирующими архетипы спортивности, целеустремленной активности, физической и социальной бодрости, разработанные А. Родченко, А. Дейнекой, А. Самохваловым, Л. Рифеншталь, Б. Игнатовичем, авторами киноплакатов начала 1930-х годов. Тематическая привязанность понятна, но почему акрил, почему такая форсированная цветность? Видимо, автор разрабатывал собственное понимание медийности как осмысленное, обретающее образный и даже «тематический» модус применения традиционной техники (современную версию постулата старика-академика П. Чистякова «по сюжету и прием»). Сигнальная активность акриловых звучаний как раз и подходила образам бодрости и напористости. Вместе с тем подобные цветовые гаммы «вычищали» исходную визуальность от налета служебности, обусловленной временем (задействованные художником образы-прототипы были ангажированы политическими режимами в полной мере). Словом, Г. Гурьянов придавал прототипам идеальность, микшируя погруженность в конкретное время. Часто, и это сближало Г. Гурьянова с неоакадемистами, он отождествлял себя с героями, наделял их собственным обликом. Но любопытный факт: на зрителя, в том числе и на себя, с картины не смотрел, напротив, прятал глаза, представая в образе киногероя в солнечных очках или капитана, глядящего в перископ. Это свидетельствует, если говорить языком кухонного психоанализа, не об «идеализированной самоидентификации нарциссического толка», а просто о «форме эмоциональной привязанности к другим людям». Скоро у Г. Гурьянова появляется и утверждается как основная новая тема – спортивные единоборства. Меняется гамма – от телесных тональностей до гризайльных, сильнее акцентируется графическое начало. Его рисунок легко принять за «академический», в нем есть слой построенности, умозрительной «лекальности». Но в главном он противоположен штудийности, ибо исключительно органичен. Гурьянов – денди, перфекционист, сосредоточенный на идее выращивания образа. Это касается целеустремленности, маскулинности, рисунка поведения, индивидуальной мифологии. Идея выращивания переносится и на рисование: идеальное рождается не в приближении к канону, а в самопрорастании. В изображении спортсменов такой рисунок дает возможность привнести тему психологической взаимопогруженности состязающихся. Они как бы повторяют друг друга – пусть не зеркально, но физически и психологически. «Как аттический солдат, / В своего врага влюбленный!» (О. Мандельштам). Постепенно возникает и зеркальность композиции: две линии гребцов, поднявших весла, как копья. Они обращены друг к другу, их мир замкнут друг на друге. Более того, их идеально сбалансированный, уравновешенный мир не только отстранен от нас, зрителей, он ускользает, в буквальном смысле уплывает. На этом этапе гурьяновская поэтика самоотверженного и героического отчуждения идеального (как единственная возможность спасти его в наше время) уже далеко отходит от тимуровской идеи одомашнивания Прекрасного.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


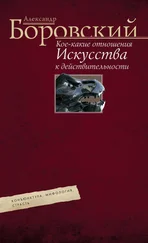
![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер - пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/397801/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra-thumb.webp)








