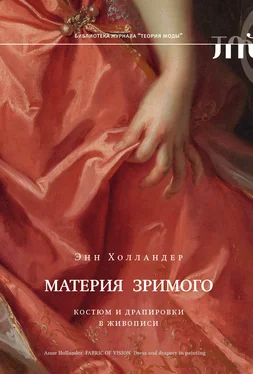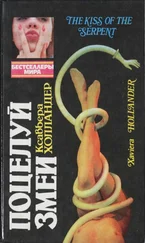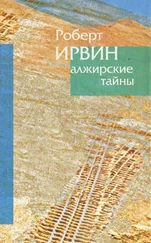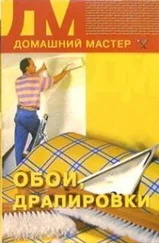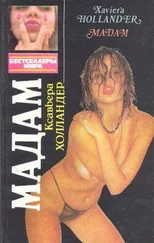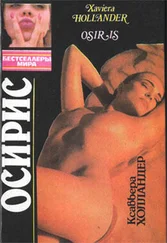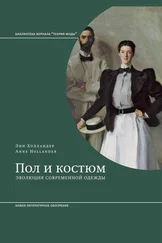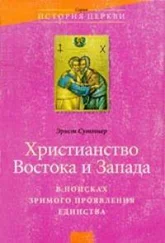Эта книга прослеживает одну извилистую тропинку из тех, что пролегают через одну из областей огромного царства живописных складок и одежды. В последующих главах речь пойдет о том, как западные художники использовали предметы одежды и драпировки в качестве выразительных средств в картинах с середины XV до середины XX века. Тема рассматривается на материале трех эпох, когда западная живопись претерпевала крупные перемены: в эпоху Возрождения, в неоклассическую эпоху конца XVIII столетия и в эпоху модернизма в начале XX века.
Мы увидим, насколько далеко, в течение длительного периода между XVI веком и концом XVIII столетия – периода, включающего эстетические сдвиги, называемые маньеризмом, барокко и рококо, – ушли художники, развивая ренессансные концепции изображения драпировки, и в каких направлениях они двигались, освободив ткань от ограничений реальности и сделав ее полностью живописной субстанцией, находящейся в динамических взаимосвязях как с символической, так и с современной одеждой в изобразительном искусстве. Затем мы сможем пронаблюдать, как в течение короткого периода – XIX века – драпировка как таковая заняла в фигуративной живописи маргинальное положение, в значительной степени ограниченное пределами исторической или классицистической фантазии (хотя она появлялась и в натюрморте), в то время как внимание художников было сосредоточено в большей степени на эмоциональных и эротических качествах современной мужской и женской одежды.
В первой половине XIX века то, как художники изображали различия в одежде мужчин и женщин, демонстрирует сильное влияние романтизма. Во второй половине столетия в дополнение к этому контрасту можно наблюдать возросший интерес к тому, как можно использовать формальные различия в мужской и женской одежде, чтобы создать атмосферу картин. В это время художники начали раскрывать психологизм костюма непосредственно при помощи формальных приемов. Повествование этой книги заканчивается художниками первой половины XX века, которые вновь подчеркивали формальные аспекты, важные для средневековых художников, работавших в плоской, стилизованной манере, которую художники раннего Возрождения стремились преодолеть. Художники-модернисты снова применили подобные подходы к одежде и драпировке, но на этот раз в поисках индивидуальной выразительности, имея за плечами столетие романтической и реалистической веры в свободу художника.
Творческая мощь художников и убедительность их замысла обусловливают огромное влияние костюмов на картинах на восприятие одежды в жизни. В произведениях искусства можно увидеть, как на самом деле должна выглядеть одежда – то есть как ее заставил выглядеть изобретательный художник, с пониманием и одобрением относившийся к нарядам, выгодным образом подчеркивая их силуэт, корректируя стилистические решения с виртуозностью мастера. Глаз, воспитанный искусством, часто видит эти эффекты в реальном мире, даже если действительность в некоторой или в значительной степени не соответствует стандартам искусства. Однако наличие стандарта ощущается, диктуя веру в правильный образ, который существует на картинах и которого всегда стараются добиться в жизни, сознательно или неосознанно. Мы изобрели зеркало, пустую картину, которую мы постоянно заполняем, видя на ней самих себя в рамках идеальной системы координат.
Изображения, с которыми мы соизмеряем свой облик, в настоящее время обычно представляют собой различные произведения кино- и фотоискусства, столь же преувеличенные и стилизованные, как и те фрески и станковая живопись, что создавались художниками до изобретения фотографии. Мы можем представить себе, как модники в Венеции эпохи Возрождения ощущали, что они воплощают представления Тициана о совершенной элегантности, или как модники в барочной Англии следили за тем, чтобы соответствовать полотнам ван Дейка. Мы можем также представить себе жителей Сиены в 1340 году, которые смотрят на фрески «Плоды доброго и дурного правления» Амброджо Лоренцетти в ратуше и видят собственные достоверные портреты, на которых они выглядят точно такими, какими представляют себя в реальности. Спустя столетия мы полагаем, что они в самом деле выглядели именно так, несмотря на невероятно гладкие чулки на ногах всех портретируемых: при реальном использовании ткань, несомненно, собралась бы в складки. Вязальные машины и синтетические волокна, действительно положившие конец сползающим чулкам, еще не были изобретены, но Лоренцетти указывает, что никто не хотел замечать складки на чулках 1340 года, и поэтому их истинный вид всегда был гладким, что и показывают нам фрески.
Читать дальше