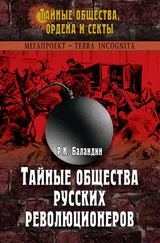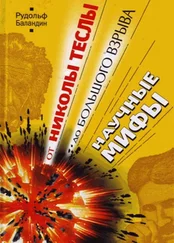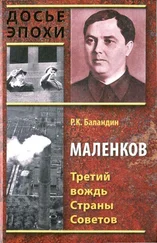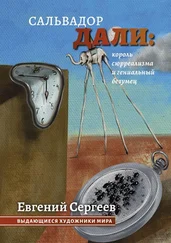«Символика моих костылей пришлась в самую пору еще не осознавшей себя мифологии нашего века, и потому костыли до сих пор еще никому не надоели, а, напротив, радуют ваши сердца. И странное дело, чем больше подпорок я ставлю, полагая, что пора бы и попривыкнуть, тем сильнее всеобщее любопытство: “А зачем столько?” Наставив чуть не тысячу костылей, дабы укрепить едва державшуюся на одной ноге аристократию, я взглянул ей в глаза и с подобающей случаю честностью объявил:
– Сейчас я тебе двину как следует!
Аристократия поежилась и шевельнула поджатой, как у цапли, ногой.
– Изволь! – и стиснула зубы, преисполняясь решимости перенести муку, подобно стоикам, без единого стона.
Я пнул ее что было силы. Она не шелохнулась. Ай да костыли!
– Благодарствую! – молвила аристократия.
– Не скучай! – ответствовал я, целуя протянутую руку. – Я вернусь! Нога твоя горда, а подпорки мои умны – и оттого тебе не страшны революции, взлелеянные мыслящими людьми, – уж я-то их знаю как облупленных. Старушка моя, ты смертельно устала, ты свалилась с пьедестала, и только одна пядь твердой земли оставлена твоей бедной ноге! Так знай: случись тебе помереть, я тут же опущу туда свою ногу – след в след – и подожму вторую, как цапля. И, не зная усталости, буду потихоньку стариться в этой прекрасной позе».
Да, он поначалу пинал – аллегорически – проклятых аристократов, богатых буржуа, тухлячков-консерваторов. Поняв, что положение их достаточно прочное, счел за благо поцеловать протянутую руку.
Художник и поэт в Нью-Йорке
По признанию Дали, в 1934 году ему захотелось новизны – общения с людьми, которых «не затронула наша послевоенная европейская плесень».
Он пожелал, по его словам, «открыть Америку». Более вероятно, что он и Гала решили развить успех художника у падкой на сенсации американской публики. А среди его покровителей в группе «Зодиак» был американский писатель Джулиан Грин.
«Едва мы вышли в открытое море, как мной овладел ужас, – писал Дали, – я боялся океана. Впервые в жизни я нигде не видел берега, а в шуме двигателя мне все время мерещился какой-то подозрительный скрип… Я исправно посещал все инструктажи на случай катастрофы, приходил загодя и, облачившись в пробковый жилет, застегнутый на все крючки и пряжки, ловил каждое слово помощника капитана. Я настоял, чтобы Гала не пренебрегала занятиями и проверочными тревогами, хотя она или злилась, или хохотала до слез над этими “дурацкими предосторожностями”. После инструктажа я обычно удалялся в каюту и, не снимая пробкового жилета, укладывался в постель, напряженно вслушиваясь, не загудит ли сирена настоящей тревоги. Все мое существо содрогалось при мысли, что я могу пасть жертвой механической поломки».
Прибыв в Нью-Йорк, он постарался возбудить интерес репортеров к своей особе. На вопрос, какая ваша любимая работа, он ответил: «Портрет моей жены». Его спросили, правда ли, что у нее на портрете две жареные котлеты на плече. Он ответил, что котлеты не жареные, а сырые.
– Почему? – последовал вопрос.
– Потому что жена у меня тоже сырая!
– А с какой стати котлеты у нее на плече?
– А с той, что котлеты мне по вкусу, равно как и жена! Почему не изобразить их вместе?
Ему пришлись по нраву американские репортеры: они «прекрасно знают свое дело и, представьте себе, понимают толк в ахинее. У них тончайший нюх на сенсацию, они сразу берут быка за рога и, пользуясь естественным замешательством, быстро докапываются до той самой изюминки, что завтра украсит первую полосу газетного меню… Американцы – прирожденные журналисты. Злоба дня – их идол».
Чтобы покорить Америку, ему пришлось ей покориться, выразив свое почтение: «Нью-Йорк вознес к небу, как трубы гигантского органа, свои небоскребы – пирамиды демократии, знак свободы. Нью-Йорк, гранитный страж у азиатских пределов, призрак Атлантиды, поднявшийся из глубин подсознания!»
Поистине поэтические строки. Писались они в Америке для тамошних читателей: «Поэзия Нью-Йорка стара и яростна, как мир. Она все та же, и своей первобытной силой она обязана той же содрогающейся в бреду живой плоти, что порождает всякую поэзию, – земному бытию. Передо мной был “Вечерний звон” Милле третичного периода: сонм склоненных фигур, замерших в напряженном ожидании соития. Вот-вот эти нью-йоркские ночи и небоскребы вопьются друг другу в горло, как те скорпионы-каннибалы, – и погибнут. Никакой не механизм гоняет тягучую жидкость по жилам центрального отопления этого гигантского звероящера, и вовсе не сплав держит его тяжелый костяк, а неизбывная, нерастраченная жажда крови. Ею рождена поэзия Нью-Йорка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу