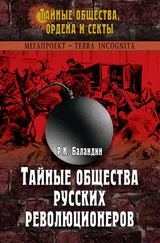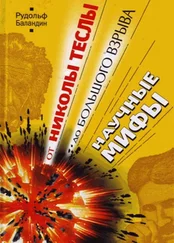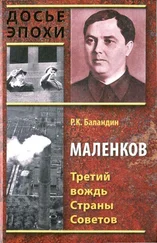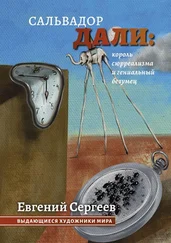«Я с головой окунулся в занятия, – писал Сальвадор Дали. – Жизнь моя, по сути дела, из них одних и состояла. Я не ходил ни на прогулки, ни в кино. Из Резиденции я ехал в Школу изящных искусств и оттуда обратно, причем, вернувшись, немедленно запирался у себя в комнате и снова занимался. Все воскресные дни я проводил в Прадо за кубистскими переложениями самых разных картин».
Все было именно так. Отец Дали попросил своего знакомого – театрального режиссера, драматурга и поэта Эдуардо Маркину – присматривать за сыном. А когда узнал, какую подвижническую жизнь тот ведет, стал беспокоиться за его здоровье. Он писал Сальвадору: в молодые годы надо ходить на прогулки, посещать театр и вообще развлекаться. Однако сын поступал так, как считал нужным: «Из Академии в Резиденцию, из Резиденции в Академию, одна песета на трамвай – и все. Я не принуждал себя. Ничего сверх того душа моя не требовала, напротив, если бы в мою жизнь вторглось еще что-нибудь, я бы досадовал и злился».
Таким вспоминал он себя той поры: «Я обзавелся черной шляпой с полями и трубкой, которую сосал, не раскуривая и даже не набивая. Брюки я терпеть не мог и потому носил короткие панталоны с гетрами, а иногда обвязывал ноги лентами крест-накрест. В дождь я облачался в плащ до пят, который привез из Фигераса. Плащ волочился по земле, а из-под шляпы торчали нестриженые космы. Словом, вид у меня в ту пору, без всякого преувеличения, был неописуемый. Именно что неописуемый. Стоило мне выйти на улицу, как поглазеть на меня собиралась толпа. Я шествовал мимо, гордо подняв голову и словно не замечая, что на меня устремлены все взоры».
Над ним потешались жители столицы с первых дней, когда он в таком виде появился на улицах Мадрида со степенным почтенным отцом и сестрой с ее провинциальными кудряшками. За такой вид его отругал отец. Но Сальвадор упорствовал. (Помните, сестра писала, будто он легко поддается внушению!) Чем объяснить такое странное стремление выставлять себя на посмешище?
В своих воспоминаниях и на этот раз Сальвадор Дали постарался показать себя в молодости таким, каким стал позже. Он же сам признавался, что был робок, особенно с девушками. Так в чем же дело? Или у него была такая психическая аномалия – выставлять себя напоказ? Но при чем тут его робость? Ее, как мы уже предполагали, наиболее логично объяснить боязнью опростоволоситься, попасть в унизительное положение; для такого гордеца это стало бы катастрофой. И все же, зная, что выставляет себя на посмешище в нелепом наряде, он стоял на своем.
Он отстаивал свою самобытность таким доступным и примитивным способом. Вряд ли ему доставляли удовольствие насмешливые взгляды прохожих. Они впивались в его самолюбивую душу, как стрелы в тело святого Себастьяна (не потому ли этот образ укоренился в его памяти?). Он гордо выдерживал эту муку, возвышаясь над убогой толпой.
Он понимал: столичная публика не такая, как в его родном городе. Если там он выглядел оригиналом, то здесь воспринимался как пугало. Но это лишь укрепляло в нем силу противодействия. Он не желал быть ни модным, ни старомодным – только особенным! Единственным и неповторимым.
Казалось бы, в Школе он должен был проявлять свою тщательно лелеемую индивидуальность с еще большим упорством. Но и тут он восстал против очевидности – поступил наоборот. В глубине души сознавал: одно дело – потешать почтеннейшую и отчасти презренную публику, а другое – постигать вершины ремесла. Его главным ориентиром оставалась классика, шедевры старых мастеров.
Однако дух новаторства витал в Школе изящных искусств и обуревал преподавателей.
XX век начался с переоценки всех ценностей в искусстве. Мир техники, индустриальная революция, а за ней и череда экономических, политических, социальных – все это превратило общественную жизнь в бурлящий котел. С болезненной быстротой возникали, громко заявляли о себе и пропадали художественные течения. Многих из них назвать течением было бы преувеличением: они быстро лопались, как пузыри во время дождя.
В предисловии к книге «Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века» (1986) Л. Г. Андреев отметил:
«В истории культуры не было другой эпохи, которая бы в такой мере, как век XX, задела и взбудоражила сознание современников, возбудила бы такую потребность в немедленном и громогласном провозглашении своих порывов и своих поисков. И сделала бы эти порывы и эти поиски столь несхожими, друг другу противоречащими, даже взаимоисключающими».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу