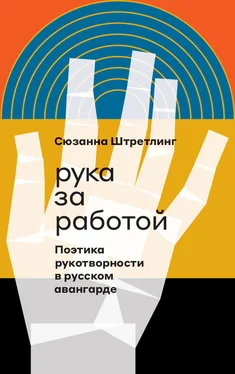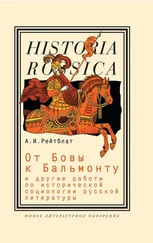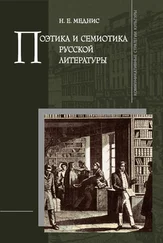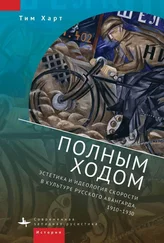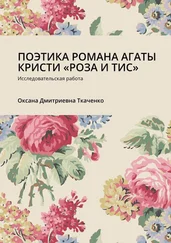, было нацелено на перенос подобного тактильного опыта в иные виды искусства. Это преодоление границ имело свою экспериментальную основу, например в исследованиях Михаила Матюшина, проводившихся в 1923–1924 годах при отделе органической культуры ленинградского Государственного института художественной культуры (ГИНХУК). Задавшись целью исследовать пределы восприятия искусства, чтобы затем сознательно формировать такое восприятие, Матюшин подвергал осязание «интенсивной тренировке», в частности задействовал его при освоении цветов и рисовании контуров, а также изучал восприятие расслабления мышц при движениях руки и линии на коже и на ладони, которые рассматривал как своего рода папиллярные перцепторы
[2] Matjušin M. Arbeitsbericht vom Leiter der Abteilung für Organische Kultur am Leningrader INChUK, 1.10.1923–1.10.1924 // Zwischen Revolutionskunst und Sozialistischem Realismus. Dokumente und Kommentare. Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934 / Hg. v. H. Gaßner, E. Gillen. Köln, 1979. S. 96.
.
Подобные тренировочные программы выходят далеко за рамки задач, связанных с расширением эстетического опыта, и фактически имеют своей целью антропологическое переоснащение человека. По сути, весь психотехнический дискурс 1920-х годов был направлен на то, чтобы, тестируя моторику и функциональность руки, при помощи тщательно спланированных серий опытов оптимизировать ее чуткость, стереогностическое чувство и моторное умение. В рамках опытов исследования осязания подопытным, в частности, предлагалось сравнить наждачную бумагу разной зернистости или металлические поверхности различной фактуры, рассортировать перья по степени их эластичности, а картонные коробки – по толщине, а также распознать на ощупь минимальные перепады уровня поверхностей. Один из наиболее деятельных инициаторов подобных исследований Алексей Гастев разработал изощренную методику тренировки рук, а в 1923 году даже предложил ввести для всех советских граждан «экзамен трудовых движений». Оценке подлежали два типа движений – ударные и нажимные, так как, по мнению Гастева, «надо уметь правильно ударять, надо уметь правильно нажимать» [3] Гастев А. Тренаж [1923] // Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. M., 1966. С. 51–52.
. То же различение применялось и в сфере искусств, в особенности искусств визуальных. Так, в понимании Дзиги Вертова кинематограф, или «кино-глаз», должен был ориентироваться осторожно, «ощупью», чтобы «не запутаться в жизненном хаосе». Эйзенштейн же, полемизируя с Вертовым, и вовсе требовал, чтобы кино превратилось в «кинокулак», способный нанести болезненный удар [4] Вертов Д. Наше течение называется «кино-глаз» [1924] // Вертов Д. Из наследия. Т. 2: Статьи и выступления. M., 2008. С. 401; Эйзенштейн С. К вопросу о материалистическом подходе к форме [1925] // Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. Т. 1. M., 1964. С. 117.
.
Контрапунктом по отношению к руке как средоточию силы и власти выступает соотносимая с тем же временем апология глаза. В эпоху классического модерна – времени, когда визуальный образ становится движущимся и благодаря этому приобретает статус ведущего медиума, впервые заходит речь о новой социологии страха прикосновения, а существенное сокращение области мануального и тактильного опыта оказывается одним из важнейших факторов, влекущих за собой отчуждение субъекта, – рука утрачивает свои ведущие позиции. Именно модерн знаменует переход к «push button culture» [5] Культура нажимания кнопок ( англ. ). – Примеч. ред.
, в которой, по мысли Ганса Блюменберга, мануальные манипуляции «гомогенизируются и сводятся к идеальному минимуму, коим является нажатие на кнопку», а «человеческие действия становятся все менее специфичными» [6] Blumenberg H. Lebenswelt und Technisierung // Wirklichkeiten in denen wir leben. Stuttgart, 1996. S. 36.
. В эту эпоху мы все острее понимаем, что «деградация руки – это цена, которую нам приходится платить за прогресс техники» [7] Waldenfels B. Sinnesschwellen. Studien zur Phänomenologie der Wahrnehmung 3. Frankfurt a. M., 1999. S. 100.
.
Среди эстетических течений модерна к описанной логике наиболее последовательно прибегал конструктивизм. Характерное для него безальтернативное рассмотрение любого артефакта как технофакта фактически продолжает уходящую вглубь веков тенденцию отрицания руки как органа, чье использование чревато ошибками. Так, в своей рукописи «Линия» (1921) Александр Родченко недвусмысленно заявляет: «Кисть уступила место новым инструментам, которыми удобно, просто и более целесообразно обрабатывать плоскость. Кисть, такая необходимая в живописи для передачи предмета и тонкостей его, стала недостаточным и неточным инструментом в новой беспредметной живописи, и ее вытеснил пресс, валик, рейсфедер, циркуль и т. д.» [8] Родченко А. Линия // Родченко А. Опыты для будущего. Дневники, статьи, письма, записки. M., 1996. С. 97.
Будучи сослана вместе с нуждающимися в ней прикладными искусствами в своеобразную ретрорезервацию, пораженная в творческих правах рука некоторое время влачит здесь свое жалкое существование, пока острые инвективы против романтического пассеизма поделок, которые лишь притворяются искусством, не изгоняют ее и отсюда.
Читать дальше