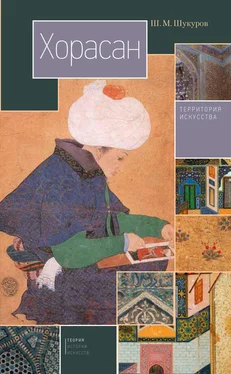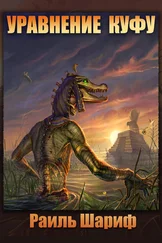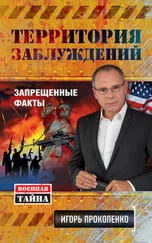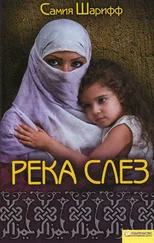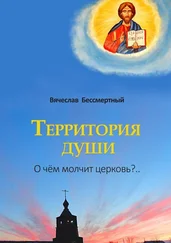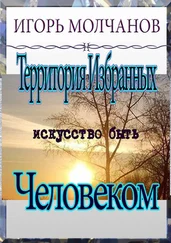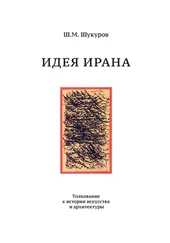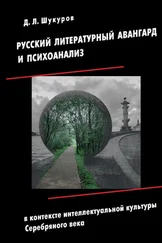Миметические основания искусства и архитектуры восточных иранцев в саманидское время, о которых говорят много, не должны пониматься буквально. Говорить о подражании искусства при Саманидах некоему изобразительному и архитектурному пласту в прошлом по меньшей мере неразумно. До сих пор не выработано критериев, согласно которым можно сравнивать мир вещей в прошлом, условно говоря, с настоящим. Эти критерии должны носить методический и теоретический модусы. В главе I мы говорили об инновативности, экстенсивности и интенсивности при подходе к искусству и архитектуре при Саманидах. Мы продолжаем разрабатывать эти критерии, которые в первую очередь связаны с фактором видения.
Суждения о мимесисе не могут не иметь отношения к соответствующему дискурсу. Именно рыцарский дискурс «ристалища и пира» (bazm-u-razm) связывает домусульманский и исламский периоды в жизни иранцев. Только поэтому столь похожи изобразительные и архитектурные иконографические схемы сасанидского и саманидского периодов, и исследователи неоправданно говорят о влиянии первых на вторых. Между тем, и об этом мы упоминали в главе I, отношение к форме и образу вещи в саманидское время полагалось не на теорию влияния, а на более тонкие рассуждения о характере памяти и воображения, взаимодействие которых приводит к появлению новой «материальной телесности» (Ибн Сина). Об этом, опираясь на рассуждения бухарского философа, мы говорили в связи с явлением «эпической телесности» в изображениях на саманидской керамике.
Значение философского (психология, теория гештальта) взгляда на все эти проблемы невозможно переоценить. Философия в этом случае является не инструментом познания, а доминирующим принципом отношения к визуальной антропологии иранцев, той антропологии, которая, по сути, отлична от теоонтологии мусульман. Это различие касается не только восприятия образа, но и твердого осознания метафизического, имагинативного дискурса, уходящего к «восточной философии» Ибн Сини и Сухраварди и обнимающего прошлое и будущее собственно иранского отношения к отдельным образам. Этот же дискурс имеет прямое отношение к стечению разных потоков образов на протяжении многих столетий. Даже отношение к молитве отличало восточных иранцев и арабов во времена Авиценны, он различал дисциплинарную и духовную молитвы, последняя для него была предпочтительной 5. Предпочтительность духовной молитвы, то есть активизация внутренней созерцательности, будь то активная деятельность хакимов или в философской традиции Ибн Сины и его сподвижников, вполне соответствовали интенсивной, а потому и инновативной культуре Саманидов. Подробнее об этом см. в Предисловии, в главах I и III.
В этом разделе мы продолжим начатое, нас будет интересовать динамичная и неоднозначная природа образа, а также возможности выявления специальных дискурсивных практик в искусстве и архитектуре различных регионов исламского мира. В книге «Искусство и тайна» мы предложили различать два этноцентричных пласта в культуре исламского мира: семито-арабское и арийско-иранское начала. Разность двух установок в одной культуре коренится в принципиальном различии между арабским и иранским языками. Семитские и индоевропейские языки отличны по отношению к глаголу «быть». В семитских языках бытийствование и сам модус существования, присутствия вещи предопределен свыше. Индоевропейцам же свойственно ощущать собственно бытие каждой вещи как данность, как присутствие. Вещь, с которой имеют дело сейчас и здесь. Если в бого-откровенной культуре арабов любая вещь есть следствие существования божественного Бытия, Бытия в качестве Бытия, то мусульмане Ирана, начиная с Ибн Сины, продолжали со всем возможным вниманием относиться, во-первых, к различию между сущностью, бытием (араб. wujūd, и перс. hastī) и сущим (mawjūd), а также к существованию каждой отдельной вещи 6. Сущее интересовало Авиценну в первую очередь, оно было явлением интеллигибельным. Специфика этнического мышления и языка заставляла его носителей относиться к Бытию и существованию особенным образом, несмотря на разделяемую арабами и иранцами религиозную установку.
В этой же связи категория становления вещи в семитской и иранской ойкуменах существенно разнится. Если процесс становления в семитской образности преимущественно сообразовывался с движением вещи по вертикали, сверху вниз, то иранцы предпочитали оставаться в рамках движения по горизонтали. Эта процедура оставалась действенной даже после завоевания мусульманами иранских земель. Арабы не смогли поколебать доминантных, этноцентричных установлений иранцев как собственно в Иране, так и в его восточных владениях 7.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу