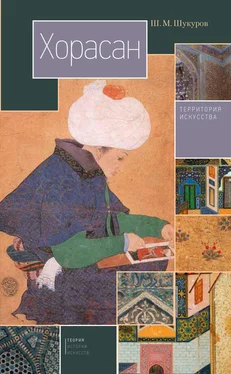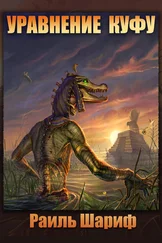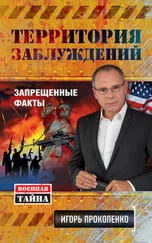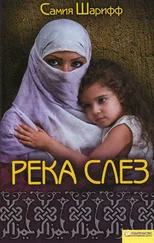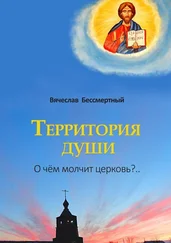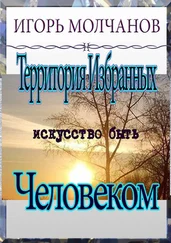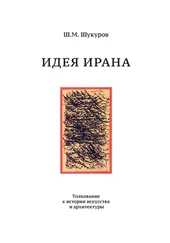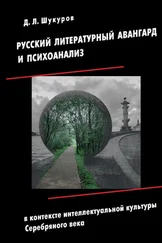«Заук является начальной степенью обнаружения и раскрытия Истины пред взыскующим [Истину], пребывающим в состоянии блеска сияния Любви, и это обнаружение, согласно восприимчивости взыскующего, его природе и характеру, является предпочтительной степенью» 46.
Соответственно, осмысленному восприятию логосного значения бытия (wujūd) вещи предшествует его предпонимание и предвкушение (wajd). Мы видим, что даже в суфизме, полностью настроенном на многоуровневую интерпретацию вещи, бесспорное преимущество отдается воспитанной интуиции, сначала постигающей вещь как таковую. Вещь должно безотчетно любить, будучи вовлеченным в пространство ее бытия, именно любить, ибо любовь к вещи есть знак внутреннего сияния Любви вышней.
Нечто подобное в понимании смысла вещи и статуса слова мы находим в саманидском искусстве. В результате археологических раскопок на городищах саманидского времени на свет появились множество изобразительных и скульптурных образов птиц, об этом мы говорили выше. Отличительной чертой при изображении или пластической проработке образов птиц является их формальная отвлеченность. Другими словами, мы не всегда в состоянии понять видовую принадлежность птиц, чаще всего саманидские художники и скульпторы дают их родовую принадлежность. Это – птица. О. Грабар, говоря о визуальной характеристике образов саманидских птиц, пишет о существовании в это время идеи птиц, формальном абстрагировании их изображений и скульптур 47.
Родовое обозначение «птица», таким образом, соответствует большинству образов птиц, а иначе говоря, изображенная или пластически оформленная вещь может существовать без дополнительного видового обозначения. Назначение таких изделий в форме птиц в большинстве случаев утилитарно. Встречаются, например, мелкие скульптурные образы птиц, служащие навершиями (ил. 14). Позднее в XII–XIII вв. утилитарное назначение малой скульптурной формы птиц и других животных на территории Большого Хорасана и Ирана расширяется, а вместе с тем их видовая орнитологическая форма становится более и более прозрачной.
Неудивительно, что в истории искусства существуют примеры, когда не вещь порождает слово, а забытое слово-повествование, вызвавшее к жизни изображение, становится для позднего наблюдателя почти неразрешимой загадкой 48. В Древней Греции существовали многофигурные вазы, не иллюстрирующие ничего, кроме своего неясного сюжета. Их расшифровка, разгадка ранее произнесенного слова могла вестись посредством угадывания функциональных качеств тех или иных персонажей. Ваза отдавала лишь толику своего содержания, заставляя наблюдателя импровизировать, искать выход из лабиринта. Нечто подобное можно увидеть и в иранской миниатюре Бехзада и в сефевидский период. В многофигурных композициях миниатюры очень часто присутствуют дополнительные сюжеты, помимо иллюстрируемого. В силу того, что новый, воображаемый рассказ занимает основное место на миниатюре, именно он становится основным. Это – тоже загадка, которую может разгадать не каждый. Следовательно, вещь далеко не всегда может быть обременена вербальным телом, нередки случаи, когда даже носителям культуры, современникам вещи, оно неподвластно 49. Зритель подобных изображений должен постоянно дрейфовать между изображениями и словами, чтобы попытаться выбраться из этого лабиринта и составить связное повествование.
Своеобразным тормозом в этом деле оказывается именно вещь, до той поры пока зритель не обнаружит меру и порядок вещи. Но верно и следующее: как только мы начинаем понимать вещь, мы ее теряем, обретая нечто другое.
Созерцание вещи, дабы оно сохраняло необходимую меру транспарентности, должно обладать некоей динамической силой, с помощью которой «умное видение» обретает свою адекватность вещи. Итак, мера, транспарентность и динамика. Однако динамика представленных зрителю образов не должна превышать установленную культурой и восприятием зрителя меру. Так, например, некоторые из керамических изделий из коллекции Халили, датируемые саманидским временем, не соответствуют ни стилистическим, ни сюжетообразующим персонажам. Речь идет о блюде с изображением несоразмерного персонажа (под названием «Бурак»), взятого, как представляется, современными керамистами из более позднего изобразительного репертуара Ирана 50.
Пример: Мера в письменности и архитектуре.
Опыт Авиценны
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу