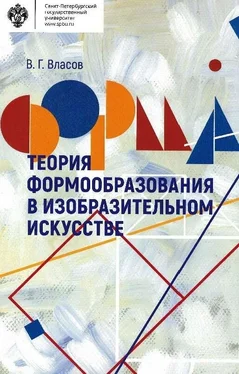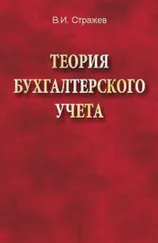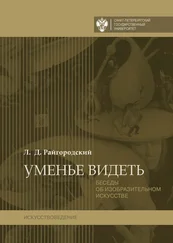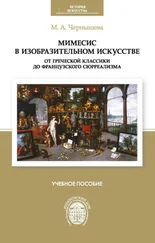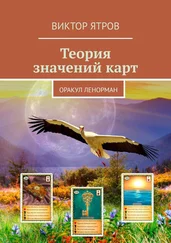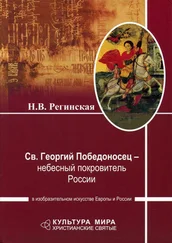На первом этапе возникновения нового направления искусствознания лидировали англичане, рационалисты и заядлые путешественники, в основном дилетанты. Так, например, Джозеф Смит (1675–1770), английский банкир, коммерсант, издатель и коллекционер гравюр, с 1744 г. был британским консулом в Венеции. Приобретал произведения искусства для английских аристократов. Смит был поклонником живописи Каналетто, которому оказывал материальную поддержку, заказывая ему картины и офорты с видами знаменитых архитектурных памятников. Предположительно, именно он подсказал Джованни Баттиста Пиранези идею воспроизведения в офортах знаменитых сооружений Рима для продажи богатым английским путешественникам.
Джонатан Ричардсон (1665–1745), английский живописец-портретист и антиквар, в 1719 г. опубликовал эссе под названием «Знаток искусства: опыт о критике, относящейся к живописи», в котором сформулировал ряд принципов, позволяющих отличать оригинал от копии.
В заглавии этого труда впервые появился специальный термин connaisseur (фр.) – «знаток». Ричардсон впервые указал, что большинство открываемых в то время в раскопках античных статуй являются позднейшими репликами древнегреческих оригиналов. В трактате «Разъяснение некоторых статуй, рельефов, рисунков и картин в Италии» (1722) он, по словам Винкельмана, составил «список желаемого» для английских коллекционеров.
Английский архитектор сэр Джон Соун (1753–1837) в 1776–1779 гг. был в Италии, затем вернулся в Лондон, проектировал и строил в неоклассическом стиле. В 1812 г. создал музей своего имени – Музей Соуна, где наряду с подлинными экспонировались копии и поддельные «античные» рельефы и статуи. Там же находился гипсовый слепок со статуи Аполлона Бельведерского, книги, картины, гравюры. У себя в поместье Соун построил руину «античного храма», будто бы случайно обнаруженную во время раскопок, а затем выдумал научную дискуссию об античном происхождении своей виллы. Музей Соуна в Лондоне в почти неизменном виде действует по настоящее время.
Английский живописец Уильям Хогарт (1697–1764) в своих картинах и гравюрах высмеивал коллекционеров-нуворишей, для которых приобретение картин – только повод продемонстрировать богатство и положение в обществе. Хогарту была известна работа Ричардсона «Знаток искусства». В дальнейшем понятия «знаток» (фр. Connaisseur) и «знаточество» (нем. Kennerschaft) обрели официальный статус. В Италии «знатоков», мастеров практической атрибуции (ит. conosci-tori), стали противопоставлять академическим ученым и «книжным» искусствоведам (ит. professori).
Методика знаточеской атрибуции предполагает доскональное знание произведений искусства; как говорят специалисты, для этой работы необходимо иметь «большой зрительный опыт», огромное количество «насмотренных произведений» и хорошо «поставленный глаз». Такой опыт позволяет мгновенно схватывать суть, угадывать особенность индивидуальной манеры, почерка художника. Интуитивный метод знаточеской атрибуции предшествует рациональному изучению произведения искусства. «Суждение глаза» знатока и оценка качества произведения искусства требуют абстрагирования от субъективных вкусовых оценок, смысловой интерпретации (иконографического исследования) и иконологического анализа.
Первое впечатление всегда самое сильное и верное, все остальное требует проверки и обоснования, поэтому заключение знатока – выше всех критериев. Далее оно лишь уточняется специалистами путем последовательного приближения и сужения круга предположений с использованием разнообразных методик.
Лучшими знатоками всегда были сами художники, владеющие ремеслом, а также коллекционеры, антиквары и «музейщики». Художники часто посмеивались над «книжниками» и их ошибками. «Профессори» не оставались в долгу, называя мастеров интуитивной атрибуции дилетантами.
Методику «визуального анализа» произведения искусства вначале именовали «методом Морелли». Джованни Морелли (1816–1891) – итальянский медик, ученик анатома, примкнув к карбонариям, борцам за освобождение Италии, взял псевдоним – анаграмму имени и фамилии, стилизовав ее под русскую: «Иван Лермольефф» (Ivan Lermolieff). Затем, увлекшись изучением искусства, он не стал, как принято, придавать значение композиции, правильности рисунка и приятности колорита. Он обращал внимание на мелкие, якобы ничего не значащие детали. Морелли был убежден, что рука мастера выдает себя в незначительных деталях, особенно в тех случаях, когда он пытается подражать другому, более знаменитому художнику или копировать его произведения. Так, подобно индивидуальному почерку, манеру живописца-портретиста во всех его произведениях можно отличить по повторяющимся из картины в картину рисунку крыльев носа, мочки уха, внутреннего уголка глаза или завитку волос.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу