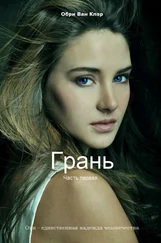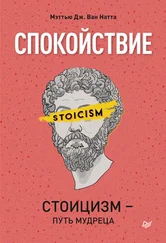Это интервью предоставило Бердслею первую реальную возможность явиться перед публикой во всей красе. Интересно, что он не стал позиционировать себя как представителя той или иной школы. Обри предпочел заявить о себе как о полностью сформировавшемся таланте, который внезапно появился из ниоткуда. Речь шла о том, что ничто в окружении не подготовило его к карьере художника, и даже развитие его личного стиля, представленного портретом Рафаэля, который Бердслей показал журналисту, произошло само по себе и без всяких усилий. Обри отрицал влияние Японии на свое творчество и утверждал, что, хотя в его рисунках многие видят приемы восточной живописи, он до недавних пор вообще ничего о ней не знал, если не считать картинок на вазах и веерах, которые можно видеть повсюду. Настоящим источником вдохновения, по его словам, послужили пьесы Уильяма Конгрива и произведения художников и писателей XVIII века, особенно французских.
Он вскользь упомянул о том, что восхищается и современной французской живописью, но на него она никак не повлияла. Воображаемая «странность» его рисунков, по словам самого Обри, всецело результат его личного видения. «Я рисую все так, как вижу… Похоже, я вижу людей не такими, как остальные художники. Для меня они в основном гротескны, и я изображаю их именно такими. Ничего не могу с этим поделать…» Моделью для его живописи может стать кто угодно и что угодно. «Меня многое вдохновляет, – откровенничал Обри. – Каждый прохожий – это мой ничего не подозревающий натурщик, и, как бы странно это ни звучало, я действительно рисую людей так, как вижу. Я же не виноват в том, что они укладываются в моем восприятии в определенные линии и углы…» Он отмежевался от всех – прерафаэлитов, символистов, декадентов: единственное определение, которое Бердслей был готов принять, – это реалист. В том смысле, что его произведения были реалистичными [13].
«Желтая книга» сделала Бердслея знаменитым. Его работы раскололи общественное мнение: они подвергались резкому осуждению и удостоивались чрезвычайных похвал. Нейтральных мнений не было. Обри достиг славы почти в современном понимании этого слова. Такая слава стала новым феноменом, возможным лишь благодаря стремительному развитию печатных изданий и огромному вниманию, которое они уделяли не только политической, но и культурной жизни Лондона и других больших городов. Примечательно, что даже в то время ее львиная доля обычно доставалась театральным звездам, а не писателям и художникам. Но Бердслей познал славу в полной мере: сначала его имя, а потом и его лицо внезапно оказались повсюду. На Обри рисовали карикатуры в газетах и пели о нем куплеты в мюзик-холлах. О нем писали и говорили, на него указывали пальцем. Что более приятно, Бердслея стали повсюду приглашать. В тот год, по воспоминаниям его матери, Обри пользовался невероятной популярностью в светских кругах Лондона. Хозяйки салонов находили его превосходным собеседником, а их гости были поражены тем, как сильно молодой художник походил на свои рисунки: долговязый [78], астеничный, во всем черно-белом. «Проникнут ли этот юноша таким же декадентским духом, как и его работы?» – спрашивали они себя и друг друга.
Обри наслаждался этой игрой, с деланой небрежностью подчеркивая свои манеры. Поза тщательно культивируемого им антинатурализма достигла высшей точки, когда он пригласил Аду Леверсон на чай и попросил ее прийти пораньше, чтобы они могли вместе понюхать цветы. Ада пришла и застала хозяина, обрызгивавшего гардении… эссенцией туберозы. Обри подарил ей флакон духов с запахом жасмина и посоветовал надушить дома любимый цветок – стефанотис. Наряду с этим Бердслей пытался шутить над своей физической немощью, заявив: «Действительно, кажется, я настолько болен, что нездоровится даже моим легким» [79]. Он все чаще надевал эту маску…
В 1894 году Обри перестал посещать церковь Святого Варнавы. Теперь он стал приверженцем ораторианства [80]. Особенно Бердслею импонировало то, что пристальное внимание ораторианцы уделяют развитию церковной музыки. Возможно, Обри и этим пытался эпатировать общество…
Вот что он писал: «Лондонская оратория – прекраснейшее из современных городских зданий… Это единственное место, куда можно прийти в воскресенье после обеда и забыть, что сегодня воскресенье». Во время визитов туда его сопровождала сестра. В поведении Мэйбл тоже появилась определенная манерность. Слава брата и особенно его возросшие доходы побудили ее покинуть Политехническую школу. Ее подруга Нетта Сиретт спросила, что Мэйбл теперь собирается делать, и услышала в ответ: «Я поступлю на сцену. А еще стану светской львицей, дорогая!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу