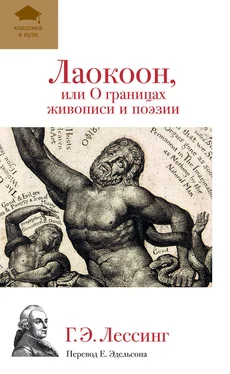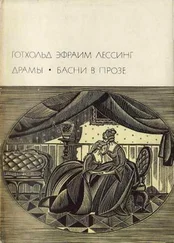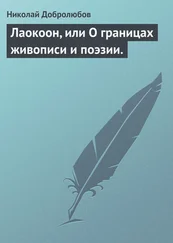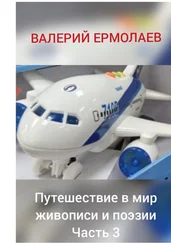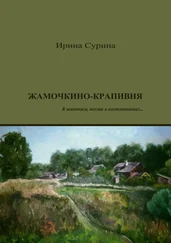Но во времена Плиния, когда Лаокоон уже находился во дворце Тита, кабинет Поллиона был как будто бы еще весь цел и в полной сохранности. Таким образом, мое предположение уже много теряет в вероятности. И почему бы сам Тит не мог сделать того, что мы хотели приписать Поллиону?
Мнение мое, что художники, создавшие Лаокоона, жили при первых императорах или, по крайней мере, не относятся к столь отдаленной эпохе, как этого хочет г-н Винкельман, подтверждается следующим открытием, которое обнародовано в первый раз самим г-ном Винкельманом. Вот его слова:
«В 1717 г. кардинал Александр Альбани нашел близ Неттуно (в древности Анциум), под большим сводом, обрушившимся в море, постамент из черно-серого мрамора, ныне называемого бигио, служивший подставкою для статуи. На этом постаменте следующая надпись: «Сделал Атанодор, сын Агесандра из Родоса» 177.
Мы узнаем из надписи, что отец и сын работали над Лаокооном вместе, ибо этот Атанодор и есть тот самый, которого называет Плиний; и Аполлодор (Полидор) был, вероятно, другим сыном Агесандра. Далее, эта надпись доказывает несправедливость положения Плиния, будто существуют только три произведения искусства, на которых художники слово «делать» написали в прошедшем совершенном времени («сделал»), и будто прочие художники употребляли из скромности прошедшее несовершенное – «делал».
Г-н Винкельман не находит особого противоречия в том, что Атанодор в этой надписи есть тот самый Афинодор, о котором упоминает Плиний как об одном из творцов Лаокоона. Афинодор и Атанодор есть, без сомнения, одно и то же имя, ибо жители Родоса говорили на дорическом диалекте. Но относительно выводов, которые он делает из этого предположения, я считаю необходимым сделать некоторые замечания.
Что Афинодор был сын Агесандра, это еще можно допустить. Такое предположение даже весьма вероятно, но оно не может считаться несомненным, ибо известно, что некоторые из древних художников вместо того, чтобы называться по имени отца, назывались по имени своих учителей. По крайней мере, не допускает другого толкования то место из Плиния, где он говорит о двух братьях, Аполлонии и Тавриске 178.
Но неужели эта надпись должна служить в то же время опровержением свидетельства Плиния, что известны только три произведения, говоря о которых художники употребили глагол «делать» в прошедшем совершенном времени? Почему же именно эта надпись? Отчего должны мы узнать из нее то, что было известно гораздо раньше из других надписей? Разве уже не было найдено прежде на статуе Германика: «Сделал Клеомен»? Или на так называемом апофеозе Гомера: «Сделал Архелай»? Или на знаменитой Гаэтской вазе: «Сделал Салпион»? 179и т. д.
Винкельман может, конечно, спросить: «Кто знает это лучше меня?» «Но, – добавит он, – тем хуже для Плиния; против его высказывания имеются, стало быть, лишние опровержения, и неверность его утверждается тем яснее».
Но что, если Винкельман заставил Плиния сказать более, нежели тот хотел? Что, если приведенные примеры опровергают не высказывание Плиния, но только те выводы, какие делает из него сам г-н Винкельман? А это именно так. Плиний в его посвящении императору Титу говорит о своем творении со скромностью человека, вполне сознающего, как много еще недостает ему до совершенства. Он находит замечательный пример такой же скромности между греками. Остановившись немного на громких и многообещающих заглавиях греческих сочинений, он прибавляет 180:
«Я же не жалею, что не выдумал другого, более пышного заглавия, и чтобы не показалось, будто я во всем осуждаю греков, я был бы очень рад, если бы подумали, что в этом (то есть в скромности заглавия) я подражал тем основателям живописи и ваяния, имена которых ты не найдешь в предлагаемых книгах. Ты увидишь там, что на лучших своих произведениях, таких, которым мы не перестаем удивляться и доселе, они оставляли лишь нерешительные надписи, как, например: «Апеллес делал», «Поликлет делал», как бы желая обозначить этим, что произведения их еще не вполне окончены и далеки от совершенства. Этим они сохраняли себе право на снисхождение своих позднейших критиков, заставляя думать, что они исправили бы некоторые недостатки, если бы были живы. Здесь проявляется похвальная скромность, вследствие которой каждое произведение их представлялось как бы последним, не отделанным окончательно по причине смерти художника. Лишь трое художников, как мне кажется, подписались в совершенном времени – «сделал такой-то», – и об этом я упомяну в своем месте. Но, обнаружив, таким образом, свою самоуверенность, эти художники возбудили против себя сильную ненависть».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу