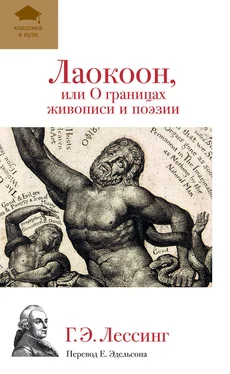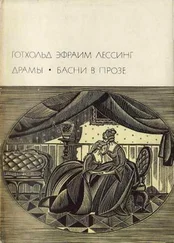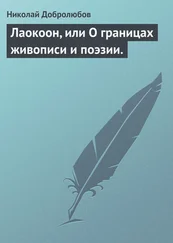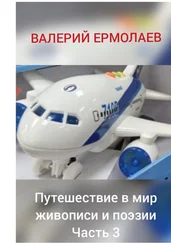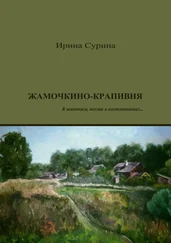Каким образом достигаем мы ясного представления о какой-либо вещи, существующей в пространстве? Сначала мы рассматриваем порознь ее части, потом связь этих частей и, наконец, целое. Чувства наши совершают эти различные операции с такой удивительной быстротой, что операции эти сливаются для нас как бы в одну, и эта быстрота безусловно необходима для того, чтобы мы могли составить себе понятие о целом, которое есть не что иное, как результат представления об отдельных частях и их взаимной связи. Допустим, что поэт может в самом стройном порядке вести нас от одной части к другой; допустим, что он сумеет с предельной ясностью показать нам связь этих частей, – сколько же времени потребуется ему? То, что глаз охватывал сразу, поэт должен показывать нам медленно, по частям, и нередко случается так, что при восприятии последней части мы уже совершенно забываем о первой. А между тем лишь по этим частям мы должны составлять себе представление о целом. Для глаза рассматриваемые части остаются постоянно на виду, и он может не раз обозревать их снова и снова; для слуха же раз прослушанное уже исчезает, если только не сохранится в памяти. Но допустим, что прослушанное удержалось в памяти полностью. Какой труд, какое напряжение нужны для того, чтобы снова вызвать в воображении в прежнем порядке все слуховые впечатления, перечувствовать их, хотя бы и не так быстро, как раньше, и, наконец, добиться приблизительного представления о целом?
Пусть попробует это сделать всякий на следующем примере, который может считаться в своем роде образцовым:
Высоко вознеслась головка энциана:
Он чернью полевой в своем величье чтим;
Под знамя он собрал все цветики поляны,
Сам братец голубой склонился перед ним.
И золото цветов, как струйки, искривленных,
Венчает стебелек, что в серое одет.
А листьев белизна вся в лучиках зеленых,
В ней – пестрой молнии, алмазов влажных свет.
Благой закон, чтоб мощь и прелесть вместе зрели:
Прекрасная душа живет в прекрасном теле.
Вот травка стелется, подобна дымке мглистой;
Природа все листки сложила ей крестом.
Как птичка тот цветок: она – из аметиста.
Два клювика торчат в сиянье золотом.
Вот листик зубчатый, покрытый ярким глянцем,
Бросает на родник зеленый отсвет свой,
И нежный снег цветов под матовым румянцем
Очерчен белою, лучистою звездой.
Здесь розы по степи лежат и изумруды,
И в пурпур облеклись седых утесов груды 103.
Здесь мы видим и травы и цветы, которые ученый поэт изобразил очень старательно и, очевидно, с натуры, но изобразил без всякого очарования. Я не хочу этим сказать, что тот, кто не видел прежде этих трав и цветов, не мог бы по этому описанию составить себе о них никакого понятия. Очень может быть, что всякая поэтическая картина требует от читателя предварительного знакомства с описываемыми предметами. Я не стану также отрицать, что знакомые с этими травами и цветами не получат – благодаря приведенной картине – более живого представления о какой-нибудь стороне этих трав и цветов. Но что сказать о целом? Если оно должно давать живую картину, то ни одна часть его не должна выступать вперед, и освещение должно быть распределено равномерно по всем частям; воображение наше должно с одинаковой скоростью обежать их все, чтобы соединить, наконец, в одно целое то, что в природе обозревается одним разом. Но наблюдается ли это здесь? А если нет, то можно ли сказать про эту картину, что совершенно подобное ей изображение живописца показалось бы бледным и туманным в сравнении с этой поэтической картиной? 104Нет, она остается бесконечно ниже того, что можно было бы дать на полотне при помощи линий и красок, и критик, так высоко ее оценивший, рассматривал ее, конечно, с совершенно ложной позиции. Вероятно, он более заметил посторонние украшения, внесенные сюда поэтом: возвышенную точку зрения его на растительную жизнь, на воплощение в растениях внутреннего совершенства, для которого внешняя красота служит лишь оболочкой, и т. д. А между тем именно на этой внешней красоте и должен был он остановиться. Она здесь – главная цель. Действительно, о чем может быть речь при сравнении произведений живописца и поэта, как не о степени живости и сходства изображений. Но тот, кто утверждает, что строки:
И золото цветов, как струйки, искривленных,
Венчает стебелек, что в серое одет...
и т. д. по производимому ими впечатлению могут соперничать с живописным изображением, например, Ван-Хюйсума, должно быть, никогда не прислушивался к своим чувствам или намеренно забывал о них. Эти строки могут быть прочтены с большим успехом, когда держишь в руках описываемый цветок; сами же по себе они не производят никакого или очень слабое впечатление. В каждом слове чувствую я труд поэта, но самой вещи не вижу совсем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу