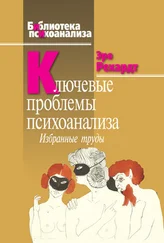Работа над выставкой принесла много интересных открытий, личных встреч, но было и много такого, о чем неприятно вспоминать. Тяжелый осадок оставляли бесконечные пересмотры списков экспонатов с арифметическими подсчетами, сколько в них «авангардистов» и сколько «реалистов». Бессмысленная арифметика возникла в связи с требованиями Академии художеств соблюдать «пропорции» в отобранном материале. Учитывая, что наследие русского авангарда было полностью изолировано от зрителей в отечественных музеях и стояла задача представить его на этой выставке наиболее полно, подобный «подсчет» выглядел особенно безнравственным. Подчас удавалось выйти из положения с помощью тактических приемов. Скажем, оставить в разделе «Изобразительное искусство» две работы Татлина, а шесть или восемь поместить в нейтральный раздел «Прикладное и промышленное искусство». Спасал также раздел «Агитационно-массовое искусство», сплошь составленный из работ авангардистов. При создании русского варианта каталога «подсчеты» распространились даже на биографии художников. Помню выволочки, которые я получала за то, что биография, например, Малевича оказывалась вдвое длиннее биографии Бродского. Сегодня об этом смешно вспоминать, но в процессе работы все эти глупости оставляли чувство досады и неудовлетворенности.
В Париже выставка имела грандиозный успех. Такого количества произведений русского авангарда, представленных в хронологической последовательности параллельно с работами французских художников, никогда не видели в Европе. Сопоставление с французской живописью и скульптурой только подчеркнуло уникальный характер русского авангардного искусства начала столетия. Цель, поставленная устроителями выставки, лидером которых был тогдашний директор Центра им. Ж. Помпиду Понтюс Юльтен, была достигнута: показать различные национальные устремления новаторского искусства в первой половине XX столетия как единый магистральный процесс развития европейской культуры, конец которому положили тоталитарные режимы и опустошающая война.
Выставка открылась в Париже в 1979 году, а в Москве, в музее, в 1981-м. Итогом парижской выставки стало серьезное изучение русского авангарда западными учеными и его успех в последующие годы на художественном рынке. Правда, выставка в Париже была омрачена скандалом и демонстрацией, которую устроили русские деятели культуры и художники-эмигранты, протестовавшие против показа работ авангардистов исключительно на Западе при запрете их искусства на родине. Демонстрантов с трудом удалось успокоить, объяснив, что выставка в том же составе будет показана в Москве.
Итоги выставки в Москве, в ГМИИ, трудно переоценить. После нее уже нельзя было выбросить авангард из истории русского искусства XX века. В двухтомном каталоге были опубликованы статьи русских и французских специалистов по истории авангардной живописи, театра, дизайна. После десятилетий молчания русский авангард вернулся в отечественную науку об искусстве. Серьезно занялись изучением авангарда музеи русского искусства, хранившие его в запасниках. Стало ясно, что включение работ художников-авангардистов в постоянные экспозиции – дело ближайшего будущего. Но должно было пройти еще несколько лет до начала «перестройки», чтобы эти задачи осуществились на практике и монографические выставки лидеров авангардного движения стали главной частью научной работы Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. Выставка «Москва – Париж» в ГМИИ опередила время на эти несколько лет, определив основной вектор историко-музейных устремлений.
Уже в разгар «перестройки» музею пришлось сыграть по отношению к отечественным сокровищницам подобную роль, открыв в 1987 году выставку Марка Шагала к 100-летию со дня его рождения. Никто в Европе так не отметил эту дату. Выставка, включившая почти все работы Шагала из русских музеев и частных собраний, а также картины из его ателье в Сен-Поль-де-Вансе, к чему удалось присоединить документы и письма из архивов, неслучайно называлась «Возвращение мастера». Ее задачей было не только собрать воедино произведения русского периода и поздние работы, но и вернуть этого великого художника XX века русской культуре. Большая часть картин для выставки была предоставлена Идой Марковной и Валентиной Григорьевной Шагал – дочерью художника и его вдовой. Вскоре в Третьяковской галерее были завершены уникальные работы по реставрации росписей Еврейского театра; в Париже вышло фундаментальное исследование А.А. Каменского «Шагал в России». После этой выставки мне неоднократно пришлось принимать участие в научных конференциях по изучению творчества Шагала в Витебске и в проектах создания в его родном городе музея.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
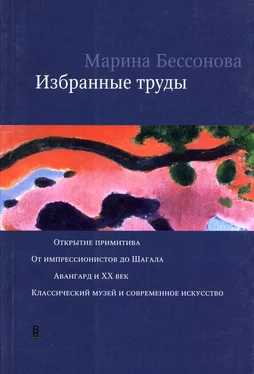




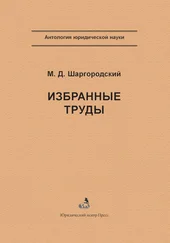
![Владимир Кудрявцев - Избранные труды [сборник]](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-thumb.webp)