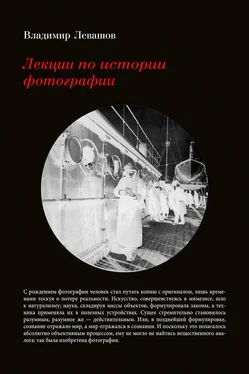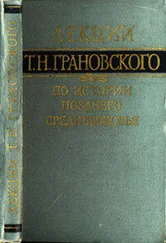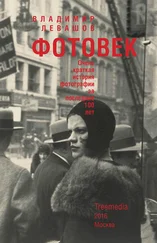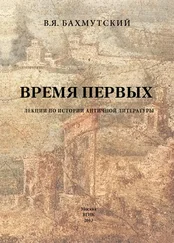Стилистически пикториальная фотография имитирует не столько живопись (точнее, академическую живопись, как в викторианское время), сколько графику, в частности, печатную. Моделью пикториального фотоискусства служит импрессионизм (в смысле размытости изображения) и символизм (в смысле сюжетно-жанровом), который в изобразительном искусстве часто заимствует импрессионистическую стилистику.
Технически такое сходство достигается использованием мягкофокусных объективов (что является, конечно же, консервативной тенденцией, поскольку новейшие объективы к тому времени уже дают небывалую прежде четкость изображения), иногда дополняемых специальными фильтрами, что позволяет создать характерную атмосферность, эмоциональную тональность образа и лишить его прозаических деталей (так фотография становится менее фотографической и более «художественной» в тогдашнем понимании).
Подобный род съемки дополняется использованием довольно широкого спектра антипрофанных техник (к которым «снэп-фотографы» никогда не стали бы стремиться) т. н. «благородной печати». В ней использовались субстанции, не содержащие серебра – от платинотипии (изобретена в 1873-м) и гуммиарабика (с 1894-го) до группы позитивных технологий, объеденным термином бромойль, распространяющихся с 1904-го – всего в употреблении в этот период находится около сотни процессов. Распространяется также и рукодельная бумага с разнообразной поверхностью (от грубо-фактурной, еще лучше убирающей детальность, до мягкой японской).
Все это дает дополнительных простор манипуляциям с изображением, которое усиленно обрабатывается кистью, карандашом, ластиком и гравировальными инструментами, свободно меняет цветовую тональность по желанию автора, максимально удаляясь от предмета съемки и объективно-документальной природы медиума. Более того, в пикториализме совершается решительный перенос акцента со съемки, с негативного процесса, на печать, на позитивный процесс (лабораторную обработку, субъективную манипуляцию). Негатив, таким образом, рассматривается как сырой материал, требующий личностной обработки-интерпретации, в результате которой и возникает то, что полагают произведением. Справедливости ради следует, однако, сказать, что в среде пикториалистов существует различное отношение к ручной обработке негатива и позитива. Так французы – активные приверженцы ручной обработки, превращающие фотографию в разновидность графики, в то время как британцы и в особенности американцы предпочитают прямую печать (а также и сравнительно гладкие бумаги) манипуляциям и процессам, полностью затемняющим механическое происхождение образов.
Отдельную национальную школу в рамках международного движения пикториализма составляет русская фотография, включающая в себя творчество целого ряда видных мастеров, среди которых Сергей Лобовиков (1870–1941), Алексей Мазурин (1846–?), Анатолий Трапани (1881–?), Николай Андреев (1882–1947), Александр Гринберг (1885–1979), Юрий Еремин (1881–1948), Николай Свищев-Паола (1874–1964).Рождение русского пикториализма приходится на первое десятилетие XX века, а его эволюция продолжается дольше, нежели в других странах – вплоть до второй половины 1930-х, когда эта «старая школа» была насильственно ликвидирована в ходе сталинской перековки советской культуры.
Субъективизация, эстетизация практики в пикториализме является, с одной стороны, проявлением общей культурной тенденции «эпохи модерн», с другой же, невротической реакцией отказа фотографии от своих основ ради повышения социального статуса. Однако, несмотря на глубокую противоречивость пикториалистической фотографии, к ней не следует относиться иначе, чем к закономерному – и эстетически, и технологически – этапу развития медиума по пути эмансипации и формирования собственного самосознания.
Пикториализм в принципе устроен как система противоречий, и даже его главные предшественники находятся в непримиримой оппозиции по отношению друг к другу. С одной стороны, это «священное чудовище» викторианской high-art photography Генри Пич Робинсон, с другой же, сторонник одновременно натурализма и мягкофокусной фотографии (что само по себе составляет противоречие), Питер Генри Эмерсон (Peter Henry Emerson, 1856–1936).
По мнению многих историков медиума, Эмерсон оказал на викторианскую фотографию влияние большее, чем кто-либо другой из современников. Этот богатый, отлично образованный аристократ становится революционным фотографом и теоретиком, автором многочисленных книг и бесчисленных статей, хотя фотография для него – лишь частное, хотя и весьма важное, проявление страсти к природе. Помимо этого, он – искусный бильярдист, основатель гребного клуба, активист Королевского метеорологического общества , автор детективов, а, главное, натуралист: то есть идеальный викторианский джентльмен, преуспевающий во всех областях, которые выбирает предметом своего интереса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу