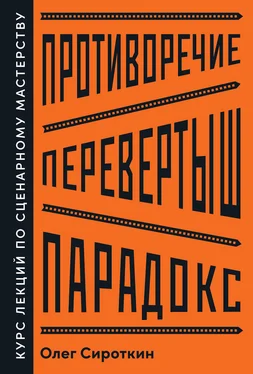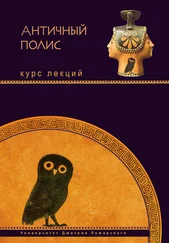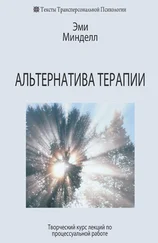Когда я посчитал количество страниц, которые я потратил на переписывание первой сцены своей короткометражки, то обнаружил – их 72! У меня закружилась голова. Собственное поведение казалось мне безумием. Вот тогда-то я вспомнил свой детский опыт, первые шаги в обучении письму. Мой папа, уважаемый человек, дипломат, сотрудник Министерства иностранных дел, миролюбивый и вежливый человек, нанес мне, сам того не желая, серьезную психологическую травму.
Она никуда не делась. Она вошла в мою кровь, стала частью творческого процесса. Я потом годами избавлялся от этой дурной привычки – бесконечного переписывания начала истории. Годами.
К чему все это? К тому, что с детства внутри нас формируются так называемые субличности. Среди самых распространенных внутренних субличностей – образы наших родителей. Часто родители оказываются критикующими персонами. Они не хорошие и не плохие. Они просто такие – «критиканы». Им кажется: если тюкать ребенка по затылку, это обязательно пойдет ему на пользу. С каждым «тюком» ребенок будет становиться лучше и умнее. Бывает, учитель в школе язвительно проезжается по поводу наших успехов в учебе. Бывает, это делает старший брат или бабушка. Тени критиканов оседают в наших душах, становятся частью нашего «я».
Во взрослом возрасте эти голоса вновь становятся слышны, когда мы мысленно выносим свое творение на суд. Те сценаристы, в чьих душах Внутренний критикан победил Творца, становятся беспощадны к своему творчеству. Критиканство парализует творческий процесс. Все, что выходит из-под пера такого автора, кажется ему жалким и убогим. И автор постепенно перестает писать. Если Внутренний критикан полностью захватил бразды правления в душе сценариста, тот бросает писательский труд – или устраивается работать… редактором. Как ни странно, к чужому творчеству критиканы более снисходительны.
Если вас злят результаты собственного труда, если они неизменно кажутся вам какими-то отвратительными – самое время поразмыслить: готовы ли вы прислушаться к голосу своего Внутреннего Ребенка-Творца? Именно Ребенок, совершающий акт творчества и влюбленный в результат своего труда, – самый мощный источник творчества.
Если мы творим, пробуждая Внутреннего Ребенка, в момент творческого акта мы, по сути, регрессируем, погружаемся в детский тип мышления. Вот почему в наших текстах много опечаток, наивных идей, неубедительных мотиваций персонажей и упрощенных жизненных схем. Когда мы творим, мы – Дети. Те самые, что, намалевав на листке бумаги каляку-маляку, в восторге бегут показывать «шедевр» маме.
Когда мы оцениваем сделанное, внутри у нас включается субличность Родителя. Нам надо научиться чередовать эти две ипостаси, чтобы творчество было результативным. Это сложнейшая задача. Не многим удается ее решить. Но если вы хотите успешно писать, нужно научиться затыкать на время своего Внутреннего критикана.
Демон седьмой: «Это никому не нужно, а значит – незачем писать»
Бывает так: ваше творчество оказывается невостребованным. Вы пишете сценарий, видите, что получается объективно интересный материал. Вас поддерживает супруга (или супруг). А вот у студий – другое мнение по поводу ваших опусов. Почему-то профессионалов ваша тема «не цепляет». И тогда в голове поселяется демон сценарного ремесла: «То, что я пишу, никому не нужно, а значит – незачем писать».
На это я могу возразить только фактами из биографий знаменитых людей. К примеру, Антон Павлович Чехов. В 1896 году состоялась премьера его пьесы «Чайка». Вот что писал сам Чехов по этому поводу: «Я видел из зрительной залы только два первых акта своей пьесы, потом сидел за кулисами и все время чувствовал, что “Чайка” проваливается. После спектакля, ночью и на другой день, меня уверяли, что я вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом отношении неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже бессмысленна». Провал «Чайки» был для Чехова тяжелейшим ударом. Пьеса была осмеяна и освистана.
Лишь двумя годами позднее «Чайка» будет полностью «реабилитирована» и постепенно обретет статус родоначальницы нового русского психологического театра, станет его манифестом. Чехов-драматург получит мировое признание.
Другой пример – творчество Варлама Шаламова. Поскольку я работал над художественным телесериалом «Завещание Ленина», то неплохо знаю биографию писателя. Так вот, Шаламов, выйдя из лагеря и живя в Москве во времена хрущевской оттепели, писал свои «Колымские рассказы» без малейшей надежды когда-нибудь увидеть их опубликованными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу