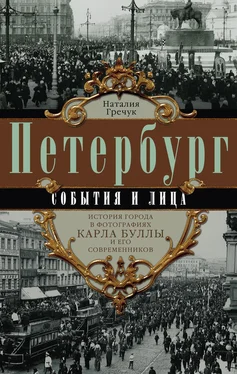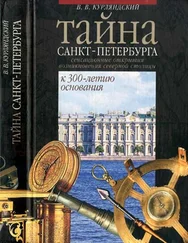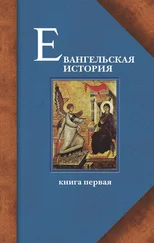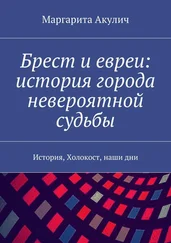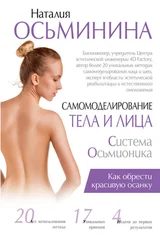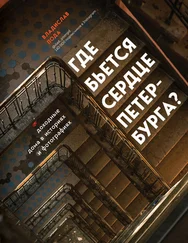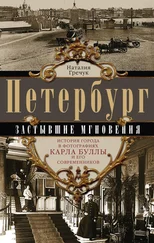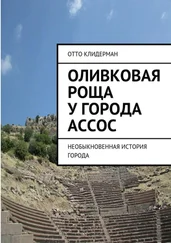1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Последнее замечание, кстати, весьма знаменательно. Как я могла понять из читанного о саде, было время – и очень долгое, – когда он в определенной степени исполнял функции теперешнего Института растениеводства.
В самом деле, брошюрка 1836 года, к примеру, рассказывает «любителям сельского домоводства» о нескольких десятках новых сортов хлебных злаков, испытанных на делянках сада: пшеницы, ржи, полбы, овса… (Названы они тут «ниворослями», то есть растущими на ниве. Никогда прежде не слыхала такого слова!)
А в году 1894-ом очередной директор сада А.Ф. Баталин рассказал в своей работе «о новых и малоизвестных полезных растениях, введенных в культуру в последнее время Императорским Ботаническим садом в С.-Петербурге».
Знаете ли вы, что именно с той поры и появилась на наших с вами «огородах» малина с желтыми ягодами?
Закладывая город «на берегах пустынных волн», «мореплаватель и плотник» Петр I решил сделать свой Санктпитербурх великой морской столицей России.
Так и вышло. Очень быстро был прозван Петербург «Северной Венецией», ведь, кроме Большой Невы, прорезают его невские рукава, многочисленные реки, речки и каналы.
Поначалу мостов город не имел. Самый первый на Неве, наплавной, плашкоутный появился лишь после смерти Петра, в 1727 году. Так что было совершенно естественно передвигаться в городе по воде.
Сам «отец-основатель» плавал от берега к берегу на лодке, именуемой на английский лад верейкой: от слова «wherry», которое «лодка», или «ялик», и означает. Он и приближенных своих приучал к такому средству передвижения.
И надо заметить, выбрал для этого весьма оригинальный способ…
Несколько позже, чем было построено Адмиралтейство (1704 год) и чуть раньше, чем начали строить суда на Охте (1720 год), повелением Петра устроена была верфь на берегу Фонтанки против Летнего сада, у впадения ее в Неву. Верфь эта была названа Партикулярной, потому что делались здесь, «по образцу европейских», суденышки «гражданские», для частных лиц. И некоторые эти лица – те, что из царского окружения, получали их, как тогда выражались, «безденежно». Более того, подарок оказывался принудительным. Петр желал, чтобы его сотоварищи хорошо освоили лодки и малые яхточки, пользовались ими постоянно, даже «во время бываемых великих ветров и штормов ходили без страху». Не знаю, для обучения ли вельмож, но устроено было при Партикулярной верфи даже «водоходное училище»…
При этом царь оказался столь требователен, что по воскресным дням заставлял всех владельцев дареных лодок собираться «целым флотом» на Неве – устраивая им смотр и «экзерциции».
Желал Петр приспособить к жизни молодой столицы и такой экзотический транспорт, как буер.
«Two things are necessary for ice-boating – ice and cour-age» – «две вещи необходимы для катания на буере – лед и храбрость». Так написано в американской «Encyclopedia of Sports». Насчет льда и храбрости правильно замечено. Все равно, как сказать, что Волга впадает в Каспийское море. Но я бы лучше вместо слова «храбрость» употребила другое, доставшееся и англичанам, и нам от французов: «кураж». В нем заложен еще и задор!
Интересно, что само слово «буер» при Петре и попало в русский язык, причем точно в том звучании, как оно произносится голландцами: «bu-jer». И неудивительно: Петр в Голландии бывал, работал плотником на верфи в Саардаме. Завезенное царем в отечество слово прижилось, его даже внесли в «Лексикон вокабулам новым».

Вокабула-то была новая, но обозначаемое им сооружение новинкой для российских людей вовсе не являлось. Северные поморы и жители берегов Ладоги и Онежья бог знает с каких времен ставили деревянные платформы на железные коньки и разъезжали по льду, ведя зверобойный и рыбный промысел…
Однако попытка царя приучить к буеру петербургских вельмож тогда практически не удалась. Видимо, им куража недостало. Известно, что на буере только сам царь иногда и ездил.
Потом буер из столичного обихода надолго исчез. Может, и находились какие энтузиасты, но история об этом умалчивает. А когда заговаривает снова, то называет сведения приблизительные и по достоверным источникам непроверяемые.
Например, что в 1819 году на верфи петербургского Адмиралтейства был построен, по словам «Энциклопедического словаря физкультуры и спорта», первый спортивный буер. Для кого, для каких соревнований – неизвестно. А о том, последовали ли за первым «спортивным буером» второй, третий и так далее, и вовсе неоткуда узнать.
Читать дальше