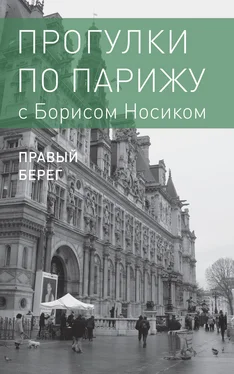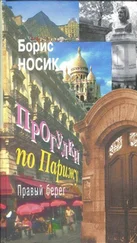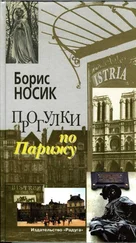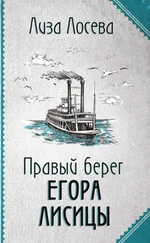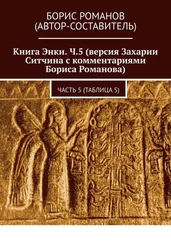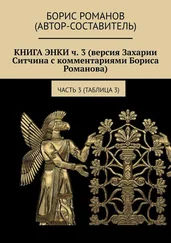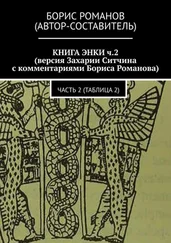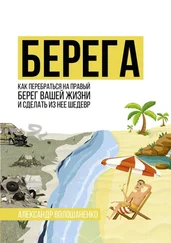С крыши арки открывается великолепный вид на Елисейские Поля и османовский Париж, а в центральном пролете арки с 1921 года устроена могила Неизвестного солдата, на которой с 1926 года зажжен так называемый Вечный огонь, так что, хотя войска больше не могут проходить под аркой, это одно из самых торжественно-официальных мест в Париже. Собственно, легкомысленные Елисейские Поля, если помните, никогда не задумывались их создателями как торжественные подступы к алтарю отечества. Волшебник Ле Нотр засадил дорожки вязами, чтобы можно было с легким сердцем по тенечку взойти на холм Шайо, туда, где таможенный барьер. Однако острая потребность в пропаганде величия привела к тому, что холм пришлось разровнять для сооружения этого монумента славы.
18 февраля 1806 года Наполеон отправил своему министру внутренних дел письмо на тот предмет, что хорошо бы соорудить что-нибудь этакое громадное, что соответствовало бы его великой армии (и ее предводителю, конечно). Он уже заказал построить Триумфальную арку, но хотелось бы чего-нибудь еще пограндиознее. Министр срочно собрал архитекторов. Стали спорить, где установить что-нибудь «громадное» – на площади Бастилии, у барьера Гоблен, у барьера Данфер или барьера Шайо? Выбрали Шайо. Потом стали спорить, что установить. Разыгралась фантазия. Большинство соблазнялось сооружением монумента в виде гигантского слона. Император до сих пор бредил великими победами своей, в сущности, позорно проигранной египетской кампании, а угодить-то надо было не публике – угодить надо было императору. Отлудить ему, скажем, слона с фонтаном, а внутри – музей его (не слона – императора) великих побед. В конце концов император склонился к проверенной веками традиционной триумфальной арке. Не будет же он проходить во главе войска под детородными органами слона.
В день своего рождения 15 августа 1806 года маленький великий человек заложил первый камень в основание арки. Слона, кстати, тоже воздвигли – те, кто знаком с романом Гюго или хотя бы детиздатской выжимкой из него, без труда припомнят, что в слоне на площади Бастилии жили крысы и ночевал мальчик Гаврош. В 1807 году был утвержден проект арки, принадлежащий архитектору Шальгрену, но споры между специалистами затянули начало постройки (ох и гадят нам эти архитекторы, взгляните, что они нахимичили возле Кремлевской стены в моем родном городе!). Когда в 1810 году Наполеон решил принять в Париже свою новую жену (Марию-Луизу) под аркой своих побед, то на срытом холме Шайо еще ничего не стояло – одни столбы, хоть вешайся. Однако жених не растерялся. А может, просто он знаком был с опытом Григория Александровича Потемкина. Так или иначе, велели изготовить «потемкинскую» арку – на деревянный каркас натянули полотна, на которых Лаффит и написал всю триумфально-арочную роскошь – несуществующие барельефы, Амура в Марсовой каске, несентиментальную надпись: «Она дарует, ублажая досуги героя…» После свадьбы арку разобрали, так что благодарному отечеству эта затея обошлась в каких-нибудь полмиллиона франков, в тысячи раз дешевле, чем миттерановское шествие с ряжеными красноармейцами в 1989 году. Через несколько лет по известным всему миру причинам работы по сооружению арки были остановлены, однако уже в 1823 году Людовик XVIII (тоже был изрядный бурбон) приказал завершить арку и посвятить ее не слишком впечатляющей испанской победе герцога Ангулемского. Это высочайшее решение вдохновило известного стихотворца Виктора Гюго на следующие бессмертные строки:
До небес вознесись ты, о арка победы,
Чтоб гигант нашей славы прошел бы под нею,
Не согнув свою выю…
Если припомнить, что все персонажи, претендовавшие на арочные почести, были, хоть и «гиганты славы», весьма незавидного росточка, то вдохновенные вирши вызовут невольную ироническую улыбку, на которую безъюморный стихотворец не смел и рассчитывать.
Позднее во Франции стряслась еще одна революция, и, придя к власти, король Луи-Филипп приказал завершить наконец строительство монумента во славу армий, как императорских, так и республиканских, что и было исполнено к 1836 году. В общей сложности арка обошлась казне в девять миллионов. Зато она содержала большое количество разнообразных статуй и барельефов, а также огромных скульптурных групп, которые увековечили и прославили разнообразные битвы, похороны и даже юность короля Луи-Филиппа – в общей сложности там прославлено 128 битв и 660 генералов. Из всего этого разнообразия героической лепнины парижанам больше всего полюбилось «Выступление» скульптора Рюда, отчего-то получившее название «Марсельеза».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу