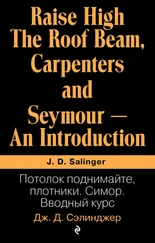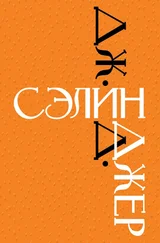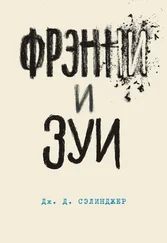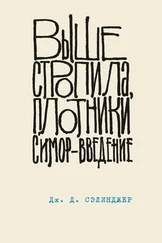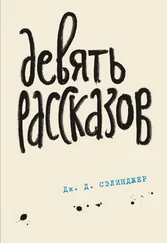Резиденция Сэлинджера, 1961 год.
Эрнест Хейвеманн: С одной стороны дороги, на маленькой расчищенной площадке, служившей внешней парковкой, стоят две машины Сэлинджера: старый потрепанный джип и новая серая «боргвард». По другую сторону была та высокая ограда. Я припарковался рядом с джипом и прошел к воротам. Как и ограда, ворота были очень прочными. И они были заперты. Я поздоровался. Надо признать, что мое приветствие прозвучало довольно робко: меня устрашала ограда.
За оградой заплакал ребенок. Хлопнула дверь с проволочной сеткой. Женский тихий голос успокоил ребенка. А потом ворота открылись – нешироко приоткрылись. За воротами стояла молодая блондинка, босоногая и без макияжа, с ребенком на руках. За спиной женщины стояла маленькая девочка, которая смотрела с дружелюбным ожиданием, так, словно надеялась, что я привел ей товарища по играм. Меня встречали двадцатисемилетняя жена писателя – родившаяся в Великобритании и получившая образование в Рэдклиффе Клэр Дуглас Сэлинджер, пятилетняя дочь писателя Пегги и его сын Мэтью, которому тогда было полтора года. Когда я представился как журналист, в глазах миссис Сэлинджер можно было прочесть: «О Господи, только не еще один журналист!» Вздохнув, она сказала, что у нее есть список посетителей, желающих встретиться с ее мужем. В сущности, этот ответ означал полный, абсолютный отказ. Не было смысла заставлять ее повторять это [436].
Гленн Гордон Кейрон: Помню, читал в журнале Life статью об этом человеке, Сэлинджере, который жил в уединенном сельском доме, не хотел встречаться с посетителями, не хотел рассказывать о себе. Статья меня озадачила, озадачила потому, что я понял: есть знаменитости, живущие особой, исключительной жизнью, и есть мы, все прочие, но в данном случае был человек, который имел возможность в молодом возрасте обрести то, что мы считаем исключительной жизнью, и он говорил: «Мне не хочется разговаривать с вами, уходите, пожалуйста».
Марк Вейнгартен: В журналах Newsweek и Life отмечали, что у проселочной дороги стоял восхитительно запущенный почтовый ящик, на котором было написано имя Сэлинджера. В обоих журналах были опубликованы фотографии этого почтового ящика, который казался сигналом «уходите». А теперь я спрашиваю вас: если Сэлинджер действительно хотел, чтобы его оставили в одиночестве, то какого рожна он написал на почтовом ящике свое имя, написал большими печатными буквами? Писать имя на почтовом ящике необязательно . Он хотел, чтобы к нему приходили люди, которые, вытягивая и выворачивая шеи, заглядывали бы в его владения, но видели бы немногое. Своей замкнутостью он дразнил людей.
Роберт Бойнтон: Журналы просто пытались понять, какой патологией страдает этот малый, у которого слава была даже на кончиках пальцев, и который не пользовался своей славой, ни в малой мере ею не пользовался. Учтите также этот безумный подход к делу папарацци и репортеров, проводящих расследования: люди заглядывают за забор, лезут в его владение. Все это складывается в спектакль о попытках разгадать загадку. Он не ходит на приемы и вечеринки. У него нет дома на Лонг-Айленде. Он сосредоточен на одном деле: на писательстве. Разговор с ним был бы похож на интервьюирование монаха, которого расспрашивают о его молитвах и обычном порядке дня. Я бы спросил Сэлинджера: «Что именно вы каждый день делаете?»
Джордж Стейнер: Сэлинджер перенял прием частичного «ухода в тень» у Т. Э. Лоуренса [437]. Он не подписывал книги в книжном магазине Brentano’s [438]и не учил литературному творчеству на Черной горе. «Во время войны я служил в Четвертой дивизии. Я почти всегда пишу об очень молодых людях». Он хотел бы, чтобы о нем знали лишь это [439].
Марк Вейнгартен: Фотографы, в дождь несколько дней прячущиеся в зарослях для того, чтобы сделать снимок Сэлинджера! Поклонники творчества Сэлинджера, приходящие издалека и устраивающие лагеря под Корнишем, – да это были буквально паломничества, словно бы вызванные религиозными устремлениями. И все это ради человека, за десятилетие написавшего единственный роман и несколько рассказов. Подлинное безумие.
Что из всего этого сделал Сэлинджер? Со времени опубликования «Над пропастью во ржи» прошло десять лет, за которые он написал всего лишь несколько рассказов. Потом вышли повести «Фрэнни и Зуи» – и р-раз, на него были обращены все прожектора СМИ. Его осаждал самый страшный враг его жизни после опубликования «Над пропастью во ржи» – репортеры крупнотиражных изданий. Известный писатель, избегающий внимания, – в истории американской литературы такое случалось действительно впервые.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
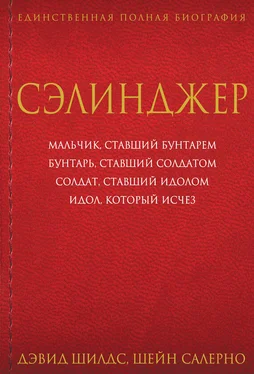


![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](/books/74234/dzherom-devid-selindzher-rannie-rasskazy-1940-1948-thumb.webp)
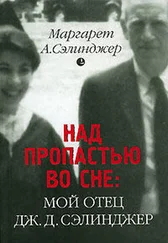

![Джером Сэлинджер - Дж. Д. Сэлинджер [litres]](/books/384574/dzherom-selindzher-dzh-d-selindzher-litres-thumb.webp)
![Бриана Шилдс - Заклинатель костей [litres]](/books/433662/briana-shilds-zaklinatel-kostej-litres-thumb.webp)