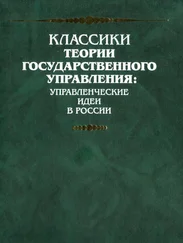Описывая события 1897 года, Тахтарев вспоминает, как рядовой рабочий реагировал на появление этих листовок:
– Вы подумайте, какие у нас времена-то! Раньше мы работали-работали, свету не видели. Своими глазами видишь, как надувают, а что поделаешь? Теперь не то! <���…> А теперь малый мальчишка пархатый, и тот везде всё заметит да подметит. В «Союз», слышишь ли, говорит, надо дать знать.
– Кто же распространяет листки?
– Студенты, надо полагать. Дай, господи, доброго здоровья тем людям, которые эти листки печатают.
И рабочий, отмечает Тахтарев, истово перекрестился [92] Тахтарев К. М. Указ. соч. С. 56.
.
Активно включившись в агитацию, крошечные силы марксизма добились поистине огромного влияния. Гектографированные листовки, отпечатанные на бумаге небольшого формата, находили живой отклик у рабочих. Часто одного факта появления этих листовок было достаточно, для того, чтобы привести весь завод в состояние брожения и вызвать острую дискуссию. Успехи агитации вскоре привлекли внимание царской полиции. Хорошо зная о взрывоопасном настроении рабочих Санкт-Петербурга, власти прислушивались к содержанию листовок. Когда в феврале и апреле 1896 года появились листовки, выражавшие требования рабочих судостроительных верфей, министр внутренних дел, опасаясь очередной стачки, распорядился провести расследование и посоветовал портовому управляющему пойти на уступки рабочим.
Переход от кружковой пропаганды к массовой агитации совершался болезненно. Для многих социал-демократов подпольная деятельность стала привычным образом жизни. Длительное пребывание в небольших и скрытых от посторонних глаз кружках развило у революционеров так называемый кружковый менталитет. Как это ни парадоксально, деятельность кружков, полная трудностей и опасностей, имела и свои «комфортные» стороны. Кружки не требовали от человека активной деятельности, направленной вовне. Члены кружка общались исключительно с товарищами или передовыми рабочими, почти все хорошо знали друг друга. Массовая агитация, напротив, представлялась многим прыжком в неизвестность. Рутинный порядок нарушался, а идеи и методы требовали коренных изменений. Неудивительно поэтому, что призыв к агитации был встречен некоторыми «стариками» с недоверием и даже враждебностью. Леонид Борисович Красин и Степан Иванович Радченко боялись, что переход к новой тактике обернётся страшными последствиями: она, мол, дезорганизует общую работу, нарушит подпольную деятельность, вызовет массовые аресты и подвергнет товарищей опасности.
Вопрос о новом тактическом повороте был проработан в узких кругах ветеранов, а затем представлен для обсуждения на широких рабочих собраниях, где зачитывались и дискутировались выписки из брошюры А. Кремера «Об агитации». Петербургский рабочий-пропагандист Иван Васильевич Бабушкин, вспоминая свою реакцию на новые предложения, отмечал:
«Я положительно восстал против агитации, хотя видел несомненные плоды этой работы в общем подъёме духа в заводских и фабричных массах, но я сильно опасался такого же другого провала [93] Речь идёт об арестах старой гвардии революционеров, включая В. И. Ленина, в декабре 1895 года.
и думал, что тогда всё замрёт, но я в данном случае ошибался» [94] Воспоминания И. В. Бабушкина (1893–1900). Л.: Прибой, 1925. С. 76.
.
Мартов вспоминает разговор с Бабушкиным, который противился внедрению новых методов. «“Вот, – говорил он нам, – стали во все стороны разбрасывать прокламации и в два месяца разрушили созданное годами”. Не чуждо ему было и опасение, что новая молодёжь, воспитываемая этой агитационной деятельностью, будет склонна к верхоглядству» [95] Мартов Ю. О. Записки социал-демократа. М.: РОССПЭН, 2004. С. 191.
. Дальнейшие события показали, что опасения Бабушкина таили в себе рациональное зерно. Некоторые из тех, кто с энтузиазмом поддерживал агитацию и выражал презрение к теории и кружковщине, были отнюдь не мнимыми, а вполне реальными оппортунистами. Однако, несмотря на ряд преувеличений, реакция против кружкового менталитета явилась критикой тех консервативных тенденций, которые, оставшись без внимания, неминуемо превратили бы массовое движение в сектантство. Годы спустя Троцкий, вспоминая об этом периоде, писал:
«Каждая рабочая партия, каждая фракция проходит на первых порах период чистой пропаганды, т. е. воспитания кадров. Кружковый период марксизма неизбежно прививает навыки абстрактного подхода к проблемам рабочего движения. Кто не умеет своевременно перешагнуть через рамки этой ограниченности, тот превращается в консервативного сектанта» [96] Trotsky L. Sectarianism, Centrism and The Fourth International // Collected Writings (1935–1936). New York: Pathfinder Press Inc., 1977. P. 153.
.
Читать дальше
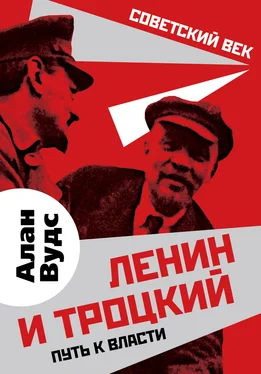


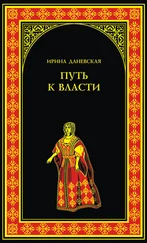
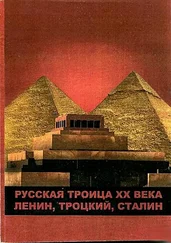
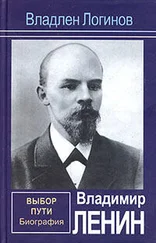
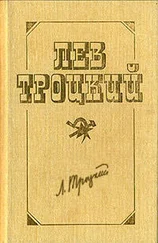
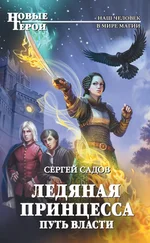
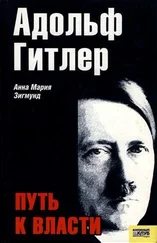
![Сергей Садов - Ледяная Принцесса. Путь власти [litres]](/books/429157/sergej-sadov-ledyanaya-princessa-put-vlasti-litre-thumb.webp)