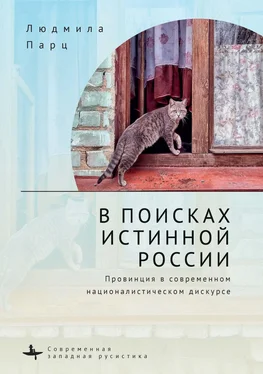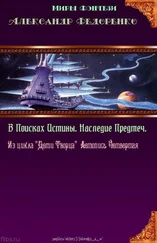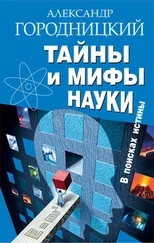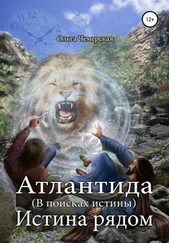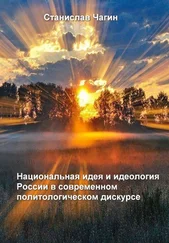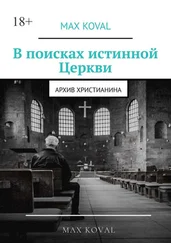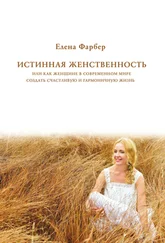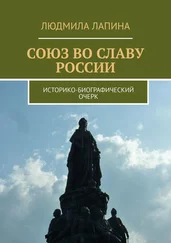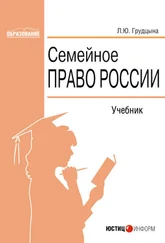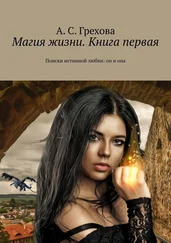Национализм и культурные мифы
Национализм не всегда имел такую дурную славу, как сегодня. Его функция – снабжать общественные или этнические объединения неотъемлемым чувством идентичности и принадлежности к некой общности, стоящей выше категорий класса, образования или имущественного положения. Если общество пытается сформировать некую идентичность, ему необходимы языковые средства, с помощью которых ее можно будет описать и обсудить; обычно такие средства черпаются в рассказах о славных корнях и общей героической судьбе – иными словами, в тех историях, которые и легитимируют национализм, укореняя его в истории и проецируя былое величие на будущее нации. Лишь тогда, когда национализм становится воинствующим и оправдывает агрессию по отношению к другим сообществам, он начинает восприниматься негативно. Однако эта общая и довольно оптимистическая картина очень мало объясняет то, почему же последний сценарий столь распространен и как те или иные истории получают статус национальных мифов. Исследования национализма в XX веке предложили ряд методов анализа его развития и роли в событиях, изменивших мир: в войнах и революциях, в распространении фашизма, в антиколониальных движениях и в образовании новых государств после распада старых империй.
Исследователи национализма применяют различные комбинации политических, экономических, этнических, культурных и религиозных подходов к своему предмету, однако при этом все они признают первостепенной роль культуры в выражении и популяризации националистических настроений. Эрнест Геллнер указывает на невозможность полного отождествления нации с государством и националистических настроений с политическими; он также скептически относится к точке зрения, согласно которой нации представляют собой органически развивающиеся этнические или языковые сообщества, тем или иным путем приходящие к государственности. По Геллнеру, нации – продукт деятельности националистов, а не наоборот; и то и другое – продукты индустриальных культур. По его мнению, национализм приобретает политическую легитимность, «когда социальные условия требуют стандартизированных, однородных, централизованно охраняемых высоких культур, охватывающих все население, а не только элитарное меньшинство» [Геллнер 1991]. Геллнер не уточняет, какими средствами высокая культура формирует национальное чувство; однако другие ученые обращают первостепенное внимание на специфическую роль в процессе создания нации именно культурных факторов. Бенедикт Андерсон позиционирует такие культурные продукты, как образовательные учреждения и воплощенный в печатной продукции капитализм в целом, в качестве факторов, способствующих изменению восприятия людьми своего места в обществе по сравнению с другими. Эти новые способы понимания сообществ, пришедшие на смену досовременным концепциям, позволяют «осмысленно связать воедино братство, власть и время» [Андерсон 2001]. Подобным же образом Хоми К. Бхабха трактует концепцию нации как «форму повествовательно-текстовых стратегий, метафорических смещений, подтекстов и символических уловок». Он фокусируется на амбивалентном культурном языке национализма и отслеживает тот момент, когда культурный авторитет находится «в процессе “сочинения” своего мощного образа» [Bhabha 1990: 2-3].
Бхабха утверждает, что нации «теряют свои истоки в мифах, порожденных временем» [Bhabha 1990:1], в то время как Энтони Д. Смит называет сам национализм «одним из самых популярных и вездесущих мифов современности» [Smith 1991: 19]. Национальная идентичность, по его утверждению, является «коллективным культурным феноменом», более широким, чем национализм [Smith 1991:7]. Смит считает, что этническая идентичность как составной элемент национальной идентичности связывает воедино мифы, воспоминания и символы нации. Как этническая группа, так и нация должны иметь название, общий миф происхождения, общую историю и культуру, территорию и чувство единства. Однако нации, кроме того, необходимо еще и чувство политической общности.
Исследователи русского национализма не обошли вниманием его общетеоретические вопросы, а также проанализировали развитие этой идеологии в огромной, многонациональной и многоэтничной империи, территориально охватывающей Европу и Азию, где отношения между правителями, бюрократическим аппаратом, интеллигенцией и народами, притом не самые мирные, сплетаются во все более сложную сеть. В связи с этим ни социально-экономический, ни культурный, ни этнический подход в отдельности не обеспечивает адекватного анализа развития российской национальной идентичности [Dixon 1998]. Как утверждают, в частности, Джеффри Хоскинг и Вера Тольц, основная проблема русского национализма заключается в том, что формирование этнической русской идентичности, входящей в состав более широкой имперской идентичности, зашло в тупик [Hosking 1997; Tolz 2001; Rowley 2000] [10] Другим исследователям отношения между национальным и имперским представляются еще более сложными: см. [Miller 2004]; Ольга Майорова замечает, что писатели и мыслители XIX века стремились провести различие между русской нацией и Империей, переосмыслив нацию через культурную мифологию и тем самым освободив ее от «тени Империи» [Maiorova 2010].
. Точно так же, как отмечает Терри Мартин, Советский Союз пытался создать единую всеобъемлющую советскую идентичность, стирающую все прочие, хотя, как ни парадоксально, этот процесс включал в себя нечто вроде антидискриминационных мер, успешно институционализировавших этничность [Martin 2001].
Читать дальше