И так далее, вплоть до финального обмена репликами:
– Смотри не забудь ничего.
– Будьте спокойны.
– Ну, а теперь в путь. Да хранит тебя Бог. Иди.
– Я сделаю все, что вы мне приказали. Я пойду. Я скажу. Не выйду из повиновения. Передам приказ («Девяносто третий год», книга 3, глава II).
Разумеется, немыслимо, чтобы Гальмало все это запомнил, и читатель, который уже на следующей строчке забывает имена, прочитанные на строчке предыдущей, вполне отдает себе в том отчет. Списки утомительны, но такой список читаешь и перечитываешь. Он как музыка. Просто звуки, это мог быть перечень названий в географическом атласе, но подобное каталогизаторское неистовство делает пространство Вандеи бесконечным.
Техника списка – весьма древняя. Если должно возникнуть нечто настолько огромное и расплывчатое, что определение или описание не смогут передать всей его сложности, следует обратиться к каталогу – прежде всего для того, чтобы создать ощущение пространства со всем, что в нем содержится. Список, или каталог, не способен заполнить пространство, вполне нейтральное само по себе, значимыми приметами, характерными чертами, бросающимися в глаза подробностями. Он собирает имена вещей, людей или мест. Это гипотипоза [195] Гипотипоза – в риторике фигура наглядного изображения предмета.
, которая позволяет видеть в условиях избытка flatus vocis [196] Колебания голоса ( лат.).
, как если бы ухо передало глазу часть обязанности, слишком обременительной, держать в голове все то, что ненавидишь, или как если бы воображение было принуждено создать место, в котором могут расположиться все называемые предметы. Список – это гипотипоза Брайля.
В том списке, который Гальмало делает вид (я надеюсь), что запомнил, нет ничего несущественного: в совокупности он дает представление о самой широте контрреволюционного мятежа, его укорененности в почве, в лесах и перелесках, в деревнях и приходах. Гюго известны все тонкости функционирования списков, включая уверенность (не чуждую, вероятно, и Гомеру) в том, что читатель не осилит его целиком (или что внимающие аэду слушают его, как слушают повторяющиеся молитвы, воспринимая только чистое звучание). Я не сомневаюсь: Гюго знал, что читатель пропустит эти страницы, как знал это Мандзони, когда, вопреки всякой повествовательной логике, оставлял дона Аббондио лицом к лицу с брави [197] Дон Аббондио – персонаж романа Алессандро Мандзони «Обрученные» (1827). Брави – в XVII в. наемники в свите знатного лица. Выполняли роль телохранителей, а зачастую по заданию хозяина запугивали и убивали неугодных ему.
, чтобы наполнить четыре страницы историческими экскурсами (вообще-то, это в «классическом» издании 1840 года – четыре, а в первом издании 1827-го – почти шесть). Читатель перескочит их (и, возможно, задержится, разве только когда будет перечитывать во второй или в третий раз), но не сможет проигнорировать список, разворачивающийся у него перед носом, – он его пропустит, потому что он невыносим, но сама его невыносимость усиливает производимое впечатление. Если мы теперь возвратимся к Гюго, то увидим: восстание столь обширно, что мы, читая, не в состоянии запомнить не то что всех его участников, но даже и всех его вожаков. Нас гложет чувство вины за перелистнутые страницы, и это передает нам ощущение величественности Вандейского мятежа.
Величествен роялистский мятеж, и величественным должен быть образ Конвента, квинтэссенции революции. Обратимся к третьей книге романа, которая так и называется – «Конвент». Первые три главы описывают зал заседаний, и уже на этих первых семи страницах описательные излишества заставляют нас потерять ориентацию в пространстве и ошеломляют. Но потом следует, еще на пятнадцати страницах, перечень тех, кто составляет Конвент, более-менее в одном ключе:
Справа Жиронда – легион мыслителей, слева Гора – отряд борцов. С одной стороны – Бриссо, которому были вручены ключи от Бастилии; Барбару, которого не решались ослушаться марсельцы; Кервелеган, державший в боевой готовности Брестский батальон, расквартированный в предместье Сен-Марсо; Жансоннэ, который добился признания первенства депутатов перед военачальниками; <���…> Силлери, хромой калека с правых скамей, подобно тому как Кутон был безногим калекой – левых скамей; Лоз-Дюперре, который, будучи оскорблен одним газетчиком, назвавшим его «негодяй», пригласил оскорбителя отобедать и заявил: «Я знаю, что «негодяй» означает просто «инакомыслящий»; Рабо-Сент-Этьен, открывший свой альманах 1790 года словами: «Революция окончена!» <���…> Виже, который именовал себя «гренадером второго батальона Майенна и Луары» и который в ответ на угрозы публики крикнул: «Требую, чтобы при первом же ропоте трибун мы, депутаты, ушли отсюда все до одного и двинулись бы на Версаль с саблями наголо!»; Бюзо, которому суж дено было умереть с голоду; Валазе, принявший смерть от собственной руки; Кондорсе, которому судьба уготовила кончину в Бург-ла-Рен, переименованном в Бург-Эгалитэ, причем убийственной уликой послужил обнаруженный в его кармане томик Горация; Петион, который в девяносто втором году был кумиром толпы, а в девяносто четвертом погиб, растерзанный волчьими клыками; и еще двадцать человек, среди коих: Понтекулан, Марбоз, Лидон, Сен-Мартен, Дюссо, переводчик Ювенала, проделавший ганноверскую кампанию; Буало, Бертран, Лестер-Бове, Лесаж, Гомэр, Гардьен, Мэнвьель, Дюплантье, Лаказ, Антибуль и во главе их второй Барнав, который звался Верньо (книга 3, глава IV).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
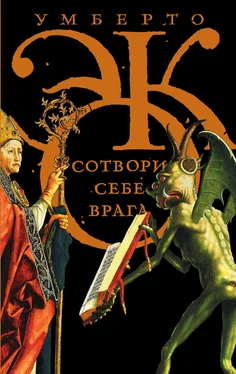

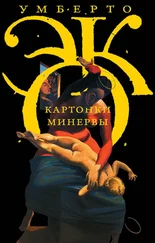



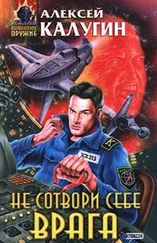

![Умберто Эко - Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres]](/books/436604/umberto-eko-rol-chitatelya-issledovaniya-po-semioti-thumb.webp)
