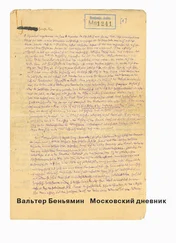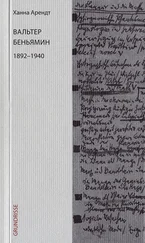Я с тем большим спокойствием передаю тебе этот – до опасной степени сокращенный в перспективе – эскиз рассуждений, ибо знаю, что ты сможешь прояснить его за счет мыслей, которые, исходя совсем из других аспектов, я развиваю в моей работе о Кафке для «Юдише Рундшау». Что меня сегодня больше всего в ней раздражает, так это апологетический тон, который всю ее пронизывает. Между тем, чтобы воздать должное образу Кафки во всей его чистоте и всей его своеобычной красоте, ни в коем случае нельзя упускать из виду главное: это образ человека, потерпевшего крах. Обстоятельства этого крушения – самые разнообразные. Можно сказать так: как только он твердо уверился в своей конечной неудаче, у него на пути к ней все стало получаться, как во сне. Страсть, с которой Кафка подчеркивал свое крушение, более чем знаменательна. А его дружба с Бродом для меня – огромный вопросительный знак, которым он хотел увенчать конец своих дней.
На этом мы сегодня круг замкнем, а в центре его я оставляю сердечный привет тебе.
26а. Беньямин – Шолему
Париж, 12.06.1938
Чтобы сообщить приложенному посланию более презентабельный вид, я счел уместным избавить его от личных привнесений, что вовсе не исключает того, что оно, как благодарность за побуждение, в первую очередь адресовано именно тебе. Я, кстати, не могу судить, сочтешь ли ты целесообразным так ли, иначе ли отдать эти строки Шокену на прочтение. Как бы там ни было, но я считаю, что погрузился здесь в комплекс Кафки настолько глубоко, насколько это мне вообще возможно в данный момент.
27. Беньямин – Шолему
Сковбостранд пер Свендборг, 30.09.1938
Меня удивляет твое молчание. <���…> Мое невероятно подробное письмо о Броде и Кафке, ради которого я, идя навстречу твоей срочной и настоятельной просьбе, отложил многие другие работы, все еще ждет и заслуживает иного ответа, нежели одно коротенькое, хотя и чрезвычайно лестное замечание.
28. Шолем – Беньямину
Иерусалим, 6/8. 11.1938
В своем гневе <���…> по поводу моего молчания ты совершенно прав <���…>.
Поскольку я, вопреки ожиданиям, не смог в Швейцарии переговорить с Шокеном в спокойной обстановке – в эти намерения решительно вмешалась мировая история, – твое письмо о Кафке и Броде все еще лежит у меня, так и не исполнив своей дипломатической миссии. Но в остальном ты не должен жаловаться на плохой прием с моей стороны. Путь созерцательного анализа, прокладываемый тобою, представляется мне чрезвычайно ценным и многообещающим. Мне бы очень хотелось яснее понять, что ты имеешь в виду под фундаментальным крушением Кафки, которое теперь поставлено в виртуальный центр твоих наблюдений. Похоже, ты разумеешь под этим крушением нечто неожиданное и обескураживающее, тогда как простейшая истина состоит в том, что крушение стало предметом устремлений, которые, в случае успеха, ни к чему, кроме краха, и не ведут. Но ты, судя по всему, имел в виду не это. Выразил ли он то, что хотел сказать? Да, конечно же. Антиномия агадистского, которую ты упоминаешь, присуща не одной только кафковской агаде, она скорее лежит в самой природе агадистского. Действительно ли его творчество отражает «болезнь традиции», как ты утверждаешь? Такая болезнь, я бы сказал, заложена в самой природе мистической традиции: то, что передаваемость традиции – единственное, что остается от нее живым в моменты упадка, не на гребнях, а во впадинах ее волн, следует признать только естественным. По-моему, нечто подобное в связи с дискуссиями о Кафке я тебе однажды уже писал. Не помню уже сколько лет тому назад в связи с моими исследованиями я набросал кое-какие заметки как раз о таких вопросах простых передаваемостей традиции, которые охотно бы сейчас продолжил: по-моему, они возникли в проблемной связи с вопросом о сущности «праведника», о типе «святого» на закате иудейской мистики. А то, что мудрость есть достояние традиции, это, конечно, совершенно правильно: ведь ей по природе свойственна неконструируемость, присущая всем достояниям традиции. Мудрость потому и мудрость, что там, где она размышляет, она не познает, а комментирует. Если бы тебе удалось тот пограничный случай мудрости, который и впрямь воплощает Кафка, показать как кризис простой передаваемости истины, то считай, что ты совершил нечто действительно грандиозное. У этого комментатора два святых писания, но оба утрачены. Спрашивается: что он может комментировать? Полагаю, что ты, в свете намеченных тобою перспектив, мог бы на этот вопрос ответить. Почему, однако, «крушение», когда он действительно комментировал – будь то ничтожество истины или что бы там еще ни выяснилось. Это что касается Кафки, чьего верного ученика я, к немалому собственному изумлению, открыл в твоем друге Брехте, в заключительной главе «Трехгрошового романа», прочитанного мною в Швейцарии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу