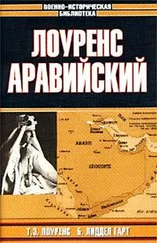Нам, сторонним наблюдателям, казалось, что выбранный ими идеал, ставший почти всеобщим, превзошел личные идеалы каждого отдельного человека, прежде являвшиеся для нас нормальной меркой мира. Не заставлял ли нас этот инстинкт с удовлетворением принимать окончательную приверженность некоему поведению, в котором наши противоречивые «я» могли бы настроиться на достижение разумной, неизбежной цели? И все же сам факт возобладания над индивидуальностью делал этот идеал преходящим.
Однако в течение какого-то времени, когда арабы были одержимы этим идеалом, жестокость власти отвечала осознанной ими необходимости. Кроме того, они были кровными врагами тридцати племен, и акты кровной мести случались ежедневно. Их взаимная вражда мешала им объединиться против меня, а существовавшие между ними различия позволяли мне иметь среди них сторонников и соглядатаев во время моих разъездов между Акабой и Дамаском, между Беэр-Шебой и Багдадом. У меня на службе из моих телохранителей погибло почти шестьдесят человек. Словно следуя какой-то странной справедливости, события вынуждали меня оправдывать ожидания моей личной охраны. Я становился таким же жестоким, стремительным, пренебрегавшим опасностью, как они. Шансы против меня были очень серьезными, а климат грозил мне смертью. За короткую зиму я это преодолел, взяв себе в союзники мороз и снег. В выносливости между нами не было большой разницы. До войны я годами проявлял беспечность в отношении своего образа жизни. Я научился один раз как следует наесться, а потом два, три или четыре дня не брать в рот и маковой росинки, а затем с лихвой наверстывал упущенное. Я взял себе за правило избегать всякой регулярности в питании и научился не привыкать ни к какому распорядку вообще.
Таким образом, я был органически подготовлен к эффективной работе в пустыне; я не ощущал ни голода, ни пресыщения, и меня не отвлекали мысли о еде. В походе я мог не пить в течение многочасового перехода от одного колодца к другому и, подобно арабам, напиваться воды сверх меры, чтобы компенсировать жажду, испытанную накануне, или запасти в организме воду на время очередного дневного перехода.
Таким же образом, хотя сон оставался для меня величайшим удовольствием на свете, я заменял его колыханием в седле на ночном марше и не чувствовал неодолимой усталости, проводя без сна ночь, следовавшую за какой-нибудь особенно трудной ночной операцией. Эти навыки приходили в результате многолетнего самоконтроля (подобное преодоление обычных привычек вполне могло бы быть уроком мужества), и благодаря им я прекрасно вписывался в условия нашей работы, но, разумеется, они давались мне наполовину в результате тренировки, наполовину благодаря накопленному опыту, и не без усилий, как это было у арабов. Зато в моем распоряжении была энергия мотивации. Их менее напряженная воля ослабевала раньше, чем моя, и в сравнении с ними я выглядел более подтянутым и более способным к действию.
Я не осмеливался вникать в источники своей энергии. Материалистическая концепция мышления, лежавшая в основе подчинения арабов чужой воле, мне вовсе не помогала. Я достигал самоотверженности (в той мере, в какой это мне удавалось) совершенно противоположным путем, через понятие нераздельности психического и физического, являвших собой единое целое, через понимание того, что наши тела, вселенная, наши мысли и восприятие были зачаты в молекулах материи, этом универсальном элементе, через который пробивалась форма в виде конфигураций различной плотности. Мне казалось немыслимым, чтобы совокупности атомов могли размышлять иначе, как в терминах атомов. Мое извращенное чувство ценностей ограничивало меня признанием того, что абстрактное и конкретное, как символы, обозначают противоположности более серьезно, нежели, скажем, либерализм и консерватизм.
Практика нашего восстания укрепляла во мне эту нигилистическую позицию. Во время восстания мы часто видели, как люди доводили себя или их доводили другие, до самого жестокого предела выносливости, и все же никогда не было и намека на физический надлом. Коллапс всегда разрастался из-за моральной слабости, разъедавшей тело, которое само по себе, без предательства изнутри, не имело власти над волей. В походах мы были бестелесными, не имели ни плоти, ни желаний, а когда во время какого-нибудь промежутка это чувство истаивало и мы обнаруживали зрением свои тела, они с какой-то враждебностью, с мстительностью достигали своей высшей цели – и вовсе не как носители души, а как биологические элементы, служившие лишь для унавоживания почвы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
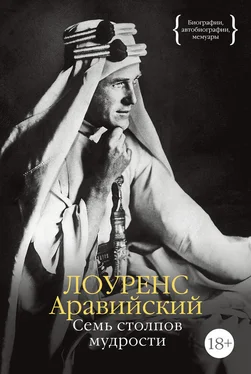

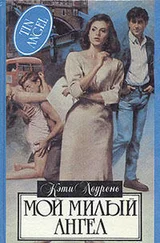
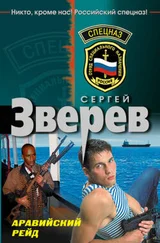
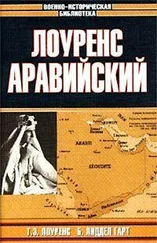

![Томас Лоуренс - Семь столпов мудрости [litres]](/books/431973/tomas-lourens-sem-stolpov-mudrosti-litres-thumb.webp)