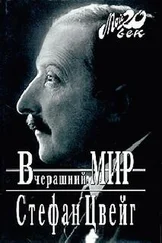Моисси, принесший со своей итальянской родины такое чувственное благозвучие языка, какого не знала до него немецкая сцена, был в то время единственным достойным преемником Йозефа Кайнца. Обаятельный, умный, живой человек, к тому же добрейший и восторженнейший, он привносил в каждое произведение частицу своего личного обаяния; лучшего кандидата на роль я и желать не мог. И все же, когда он вызвался играть ее, воспоминание о Матковски и Кайнце ожило во мне, и я отказал Моисси под каким-то предлогом, не открывая ему настоящей причины. Я знал, что он унаследовал от Кайнца так называемый перстень Иффланда – по давней традиции величайший актер Германии передавал его как эстафету лучшему из своих преемников. А что, если он под конец унаследует и судьбу Кайнца? Во всяком случае, что касалось меня, то я не хотел в третий раз быть вестником рока для величайшего немецкого актера нашей эпохи. Так из суеверия и любви к нему я отказался от идеального исполнения, которое едва ли не решило бы судьбу моей пьесы. Без вины виноватый, я все еще не выпутался из сетей чужого рока.
Я отдаю себе отчет в том, что в этом месте моя история становится подозрительно сверхъестественной. Ну хорошо, Матковски и Кайнц – тут, вероятно, дело объясняется несчастливым стечением обстоятельств. Но при чем здесь Моисси, ведь я не дал ему роли и драм больше не писал.
Это произошло так: много лет спустя (тут мое повествование забегает вперед), летом 1935 года, я преспокойно жил в Цюрихе, как вдруг получил от Александра Моисси телеграмму из Милана: он прибывал в Цюрих вечером, специально для встречи со мной, и просил ждать его непременно. Странно, подумал я. Что за спешка – у меня ведь нет новой пьесы, и вот уже много лет, как я охладел к театру. Но ждал я его, разумеется, с радостью, потому что в самом деле любил как брата этого пылкого, сердечного человека.
Он бросился ко мне, едва вышел из вагона, по итальянскому обычаю мы обнялись, и прямо в машине по дороге с вокзала Моисси, сгорая от нетерпения, как это умел делать только он, стал рассказывать мне, что я могу для него сделать. У него ко мне просьба, огромная просьба. Пиранделло оказал ему особую честь, передав для премьеры свою новую пьесу. Причем премьера будет не простая, а мирового значения: пьесу поставят в Вене на немецком языке. В первый раз итальянский писатель такого масштаба уступает право первой постановки иностранцам, и даже Парижу он его не решился доверить.
Пиранделло боится, что в переводе музыкальность и зыбкий ритм его прозы будут утрачены. Ему очень хотелось бы, чтобы пьесу перевел на немецкий язык не какой-нибудь случайный человек, а именно я, чье языковое мастерство он давно уже ценит. Разумеется, Пиранделло постеснялся просить меня тратить время на переводы! И вот он, Моисси, взялся передать мне просьбу Пиранделло.
Я и в самом деле уже много лет не занимался переводами. Но я слишком высоко ценил Пиранделло, с которым у меня было несколько теплых встреч, чтобы огорчать его отказом, а самое главное – мне предоставлялась приятная возможность оказать услугу такому близкому другу, как Моисси.
На одну или две недели я оторвался от своей работы; несколько недель спустя в Вене была объявлена международная премьера (которую по политическим мотивам особенно раздували) пьесы Пиранделло в моем переводе. Пиранделло сам намеревался приехать, а поскольку в ту пору Муссолини провозгласил себя покровителем Австрии, то все официальные круги во главе с канцлером объявили о своем присутствии. Вечер должен был одновременно стать политической демонстрацией итало-австрийской дружбы (в действительности протектората Италии над Австрией).
В те дни, когда должны были начаться первые репетиции, я случайно оказался в Вене. Я предвкушал встречу с Пиранделло, мне было все-таки любопытно, как зазвучат слова моего перевода в музыке речи Моисси. Но мистическим образом через четверть века повторилось все то же. Открыв рано утром газету, я прочел, что Моисси приехал из Швейцарии с тяжелым гриппом и в связи с его болезнью репетиции переносятся. Грипп, подумал я, – это не может быть опасно. Но когда я шел к гостинице (слава богу, успокаивал я сам себя, не гостиница «Захер», а «Гранд-отель»!), чтобы навестить больного друга, сердце мое билось учащенно и воспоминание о напрасном визите к Кайнцу ожило во мне. И с величайшим актером эпохи все опять – в который раз! – произошло точно так же, как более четверти века назад. К Моисси меня уже не допустили: у него началась агония. Спустя два дня вместо репетиции я стоял у его гроба, как стоял у гроба Кайнца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу