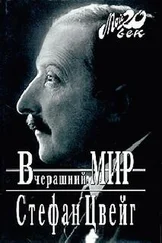Каждая последующая встреча вновь и вновь восхищала меня тем, с какой уверенностью и серьезностью этот старый мастер относился к себе. Однажды я сидел рядом с ним на закрытой репетиции его «Елены Египетской» в Зальцбургском доме фестивалей. В совершенно темном зале, кроме нас, никого не было. Он слушал. Вдруг я заметил, что он тихо, но нетерпеливо постукивает пальцами по спинке кресла. Затем прошептал мне: «Плохо! Просто очень плохо! Здесь мне ничего не пришло на ум». А через несколько минут снова: «Если бы я мог это вычеркнуть! Боже милостивый, это место никуда не годится: пусто и слишком длинно!» И снова через несколько минут: «А вот это, послушайте, это – хорошо!» Он судил свое собственное произведение так серьезно и так бесстрастно, словно эту музыку слушал впервые, а написана она была композитором, ему совершенно неизвестным, и это удивительное чувство границ собственных возможностей никогда не подводило его. Он всегда знал точно, кто он и на что способен. Что по сравнению с ним значат другие, интересовало его мало, и так же мало – что значит он для других. Что его волновало, так это работа.
«Работа» для Штрауса – процесс довольно удивительный. Ни следа демонизма, ничего от творческого «озарения», от тех спадов и отчаяния, которые нам известны из биографий Бетховена, Вагнера. Штраус работает деловито и холодно, он сочиняет, как Иоганн Себастьян Бах, как все настоящие мастера своего дела, – спокойно и планомерно. В девять часов утра он садится за стол и продолжает работу с того места, на котором остановился вчера, всегда записывая первый набросок карандашом, чернилами – партитуру клавира, и так без перерыва до двенадцати или до часу. После обеда он играет в скат, переносит две-три страницы в партитуру, а вечером при любых обстоятельствах дирижирует в театре. Всякая нервозность ему чужда, днем и ночью его художнический разум одинаково бодр и ясен. Когда прислуга стучится в дверь, чтобы подать концертный фрак, он откладывает работу, едет в театр и дирижирует с той же уверенностью и тем же спокойствием, с какими после обеда играет в скат, а вдохновение снова включается на следующее утро в том месте, где была прервана работа. Ибо Штраус, выражаясь словами Гёте, «повелевает» своим вдохновением; искусство означает для него мастерство и еще раз мастерство, как об этом свидетельствует его шутка: «Кто хочет стать настоящим музыкантом, тот должен уметь сочинять музыку даже к меню». Трудности его не пугают, они доставляют лишь развлечение его виртуозному мастерству. Я с удовольствием вспоминаю, как искрились его большие голубые глаза, когда он торжествующе обращал мое внимание на то или другое место: «Ну и задал же я тут задачку певице! Настрадается она, бедняжка, пока у нее получится это место». В такие редкие секунды, когда глаза его начинали искриться, чувствовалось, что в этом необыкновенном человеке, который точностью, планомерностью, основательностью, мастерством и внешним спокойствием своего творческого метода, да и всей своей внешностью – на первый взгляд заурядным лицом с пухлыми по-детски щеками, невыразительностью черт и слегка выпуклым лбом, – сначала вызывает некоторое недоверие, глубоко скрыто нечто демоническое. Достаточно раз заглянуть в его глаза, светло-голубые, лучистые глаза, чтобы почувствовать за этой маской добропорядочного бюргера некую особую магическую силу. Быть может, это самые живые глаза, когда-либо виденные мной у музыканта, не демонические, но какие-то по-своему ясновидящие глаза человека, который до конца познал свое назначение.
Возвратившись после этой вдохновляющей встречи в Зальцбург, я тотчас принялся за работу. Сгорая от любопытства, подойдут ли ему мои стихи, я буквально через две недели отослал первый акт. Ответ пришел незамедлительно: открытка с цитатой из мейстерзингеров – «первый бар [62]удался». После второго акта еще более сердечное послание: начальные такты его песни «Благословен тот час, когда тебя я встретил, о милое дитя!» – и эта радость его и даже восторг сделали всю мою дальнейшую работу невыразимым удовольствием. Во всем моем либретто Рихард Штраус не изменил ни единой строчки и лишь один раз попросил меня вставить для вторых голосов еще три или четыре строки. Так между нами установились самые сердечные отношения, он бывал у нас дома, а я у него в Гармише, где он своими длинными тонкими пальцами проигрывал мне на рояле, одну часть за другой, всю оперу. И для нас было само собой разумеющимся, решенным делом то, что после окончания этой оперы я должен буду сразу же приступить ко второй, предварительный набросок которой он уже заранее безоговорочно одобрил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу