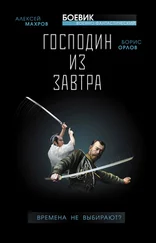Локального успеха удалось достичь только на Брянском направлении – там наши не успели построить значительных укреплений. Да и, честно говоря, считали, что немцы в эту сторону наступать не будут – для использования танков местность была неподходящей – знаменитые густые Брянские леса. Однако немцы и не стали загонять туда свои немногочисленные танки, а нанесли удар только пехотой. Проломив оборону, Вермахт устремился вглубь и… получил мощный встречный удар. Пехота сошлась с пехотой… Сражение проходило на довольно ограниченном участке фронта и носило крайне жестокий характер – дело постоянно доходило до рукопашных схваток. Потери обеих сторон оказались просто чудовищными. Чуть позже это сражение назвали «Брянской мясорубкой». В течение всей зимы Вермахт и РККА перебрасывали под Брянск резервы и снятые с «тихих» мест части – бои не утихали, «мясорубка» исправно перемалывала сотни тысяч людей.
Итоги осенне-зимней кампании вышли для немцев неутешительными – им так и не удалось выйти на оперативный простор. А Красная Армия, хоть и понесла весьма большие потери, сумела удержать фронт, не допустив глубоких прорывов. Вообще весь сорок первый год стал для Советского Союза хоть и тяжелым, но не катастрофическим, как в «нашем» варианте истории: удалось сохранить авиацию и механизированные части; эвакуация с захваченных территорий проходила значительно организованней; РККА не допустила большого количества страшных «котлов», вроде «наших» Белостокского, Минского, Киевского, Уманского, Вязьменского; а окружение войск в Прибалтике не принесло фашистам больших дивидендов – личный состав частично вывезли усилиями Балтийского флота, а оставшихся успешно снабжали по морю – Рига так и не сдалась. Ленинград не оказался в блокаде, все его промышленные предприятия работали на полную мощность, выпуская КАЧЕСТВЕННЫЕ танки «КВ». Танковый завод Харькова, тоже оставшись на месте, внес свою посильную лепту в создание «железного щита» Страны Советов.
Заработавший ленд-лиз принялся снабжать Советский Союз не оружием и сырьем, этого в СССР хватало, а станками, автомобилями и моторами.
Постепенно, набивая шишки, разменивая территорию на время, а потери людей и техники на бесценный боевой опыт, Красная Армия с большим опережением (спасибо «новым» уставам и штатным расписаниям), в сравнении с «реальной историей», вышла на уровень подготовки, примерно соответствующий «нашему» сорок третьему году, уже к середине сорок второго года. Вот тогда в полную силу и заработали наши с Батонычем «посылки». Информация, которую можно было условно разделить на три пакета: технический, технологический и геологический, все-таки «выстрелила». Достаточно медленно, преодолевая объективные трудности, на производстве внедрили и освоили новые технологические методы.
Но даже в сорок втором году бой двух армий, двух государств, все еще шел не на равных. Когда Красная Армия посчитала, что достаточно сильна для наступления и решила срезать ударом на север Белорусский выступ, она получила быстрый и жестокий ответ: под Ровно произошла грандиозная битва, сравнимая со сражением на Курской дуге, в результате которой наши войска были разгромлены. И немцы рванули к Днепру, обходя Киев с двух сторон. «Мать городов русских» оказалась в том же положении, что и Сталинград «нашей» версии истории – до самого конца года в городе шли тяжелейшие бои.
Чуть севернее фашисты отрезали гомельскую группировку РККА и вышли к Брянску, южнее – достигли Крымского перешейка (и застряли на нем). Положение на фронте продолжало ухудшаться – Вермахт наскреб по сусекам резервы и смог организовать второе наступление: на Смоленск. Жесточайшие сражения шли по всей линии соприкосновения, затихнув только с началом весенней распутицы. Фактически немцы полностью выдохлись, чему способствовало два обстоятельства, ставших прямым следствием нашего вмешательства.
Поступившие в действующую армию новые истребители сами по себе ничего не решали, особенно если в них сажали новичков, обученных по принципу «взлет-посадка». Но к осени 1942 года ВВС Красной Армии сумели набрать значительный опыт, и расчистка неба от немецких стервятников пошла гораздо быстрее. В качестве противодействия резко возросшему количеству потерь бравых асов Люфтваффе рейхсмаршал Геринг предложил усилить бронирование своих самолетов, особенно новейших «Фокке-Вульф-190». Это перевело «Фоки» в категорию штурмовиков, тем более что от производства пикировщиков «Юнкерс-87», являющихся главной добычей «сталинских соколов», немцы вообще отказались. В итоге рисунок воздушных боёв заметно изменился – Люфтваффе практически перестало поддерживать ударами с воздуха наземные войска, сосредоточившись на противодействии советской авиации. Чуть позже это даже привело к тому, что новые реактивные самолеты в Германии разрабатывали только в качестве истребителей. Но и тогда это не сумело переломить ситуацию – начиная с весны сорок третьего года советские летчики стабильно «удерживали небо».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
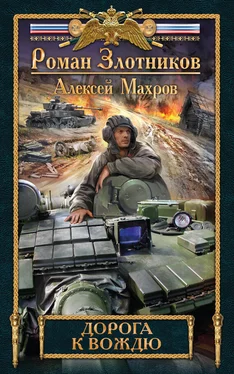

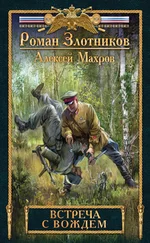

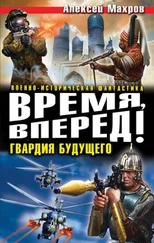
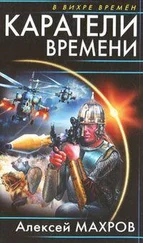
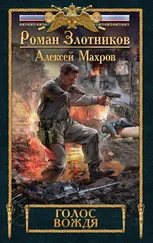

![Алексей Махров - Стажер диверсионной группы [litres]](/books/402162/aleksej-mahrov-stazher-diversionnoj-gruppy-litres-thumb.webp)
![Алексей Махров - Голос вождя [litres]](/books/429033/aleksej-mahrov-golos-vozhdya-litres-thumb.webp)