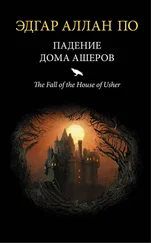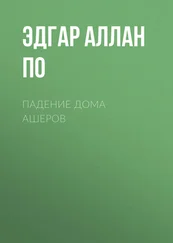Наконец внимание мое было привлечено его странным поведением. Полизав несколько минут мое лицо и руки, он внезапно останавливался и испускал легкий визг. Протягивая руку, я всякий раз убеждался, что он лежит на спине, задрав лапы кверху. Я никак не мог объяснить себе это странное поведение. Видя его беспокойство, я подумал, нет ли у него какой-нибудь раны или ушиба, и тщательно ощупал его лапы, но они, по-видимому, были совершенно здоровы. Тогда, решив, что он голодает, я дал ему кусок ветчины, которую он проглотил с жадностью, но тем не менее продолжал свои загадочные действия. Наконец я решил, что он, подобно мне, томится жаждой, и совсем было успокоился на этом объяснении, когда мне пришло в голову, что я ощупал только его лапы, а между тем рана могла находиться на туловище или на голове. Я снова принялся ощупывать его; на голове ничего не нашел, но, проводя рукой по спине, заметил, что в одном месте шерсть как-то взъерошилась. Оказалось, что в этом месте был шнурок, опоясывавший его туловище. При более тщательном исследовании я нашел узелок, в котором, по-видимому, была завязана бумажка, приходившаяся как раз под левым плечом животного.
У меня тотчас мелькнула мысль, что это записка от Августа, что какой-нибудь непредвиденный случай помешал ему освободить меня из заточения и он придумал этот способ уведомить меня о положении дел. Дрожа от нетерпения, я вновь принялся отыскивать спички и свечи. Я смутно припоминал, что упрятал их очень тщательно перед тем, как улегся спать, и до своего путешествия к люку хорошо помнил, в каком месте положил их. Но теперь я тщетно старался припомнить это место и целый час провел в бесплодных поисках. Вряд ли когда-нибудь я испытывал такое адское беспокойство и нетерпение. Наконец, ощупывая всюду (и случайно высунув голову из ящика), я заметил какой-то странный свет. Изумленный, я попытался добраться до него, так как он находился неподалеку от меня. Но, сдвинувшись с места, я потерял из вида свет и, только приняв прежнюю позу, поймал его снова. Тогда я стал осторожно водить головой из стороны в сторону и вскоре убедился, что, двигаясь потихоньку в направлении, противоположном тому, которое я принял в первый раз, могу приблизиться к свету, не потеряв его из вида. Добравшись до него по извилистым, узким проходам, я убедился, что свет исходит от спичек, валявшихся на пустом опрокинутом бочонке. Я недоумевал, каким образом они попали сюда, когда рука моя нащупала два или три комка воска, очевидно, изжеванного собакой. Я тотчас догадался, что она сожрала весь мой запас свечей, и потерял всякую надежду прочесть письмо Августа. Незначительные остатки воска так перемешались с сором, что я не мог извлечь из них никакой пользы и бросил их без внимания. От спичек осталось всего две-три головки фосфора; я подобрал их и вернулся к ящику, где Тигр оставался все время.
Я не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не мог рассмотреть свою руку, даже когда подносил ее к самому лицу. Белый клочок бумаги был едва различим, и только когда я смотрел на него не прямо, а искоса. Можно судить по этому, как темно было в трюме. По-видимому, записке моего друга, если только это была его записка, суждено было окончательно истерзать мою и без того измученную душу. Тщетно я придумывал всевозможные способы раздобыть свет, способы один другого нелепее, какие могут прийти в голову разве курильщику опиума и кажутся ему то удивительно разумными, то никуда не годными, смотря по тому, рассудок или воображение берут верх. Наконец у меня мелькнула мысль, показавшаяся мне вполне рациональной, так что я только подивился, как не пришла она раньше. Я положил бумажку на переплет книги и натер ее кусочками фосфора, которые нашел в бочонке. Бумага немедленно засветилась ярким светом, и если бы на ней было написано что-нибудь, я, без сомнения, прочел бы без труда. Но ни единой буквы!.. Белая, гладкая бумага и больше ничего. Через несколько мгновений свет мало-помалу замер, и сердце мое замерло вместе с ним.
Я уже говорил, что перед этим мой ум был близок к состоянию полного помешательства. Были, конечно, минуты совершенной ясности и пробуждения энергии, но очень редко. Надо помнить, что я в течение многих дней дышал зачумленной атмосферой замкнутого трюма на китобойном судне при очень скудном запасе воды. В течение последних четырнадцати-пятнадцати часов я вовсе не пил и не спал. Соленое мясо было моей единственной пищей после порции баранины; правда, у меня имелись еще сухари, но они были так сухи и жестки, что положительно не шли в мою пересохшую и распухшую глотку. Я был в жару и, вероятно, не на шутку болен. Только этим и объясняется, как мог я провести несколько часов в состоянии самого жалкого отчаяния и лишь тогда сообразить, что следовало посмотреть и другую сторону бумажки. Не пытаюсь изобразить бешенство (так как гнев господствовал над всеми остальными чувствами), овладевшее мною, когда мысль об этой оплошности внезапно озарила меня. Само по себе упущение было бы нетрудно исправить, если бы не моя безумная, ребяческая выходка: увидев, что на бумаге ничего не написано, я разорвал ее на клочки и бросил их, так что теперь не мог найти.
Читать дальше
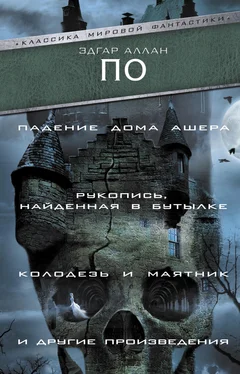

![Эдгар По - Падение дома Ашеров [сборник]](/books/30677/edgar-po-padenie-doma-asherov-sbornik-thumb.webp)