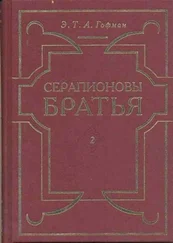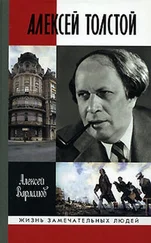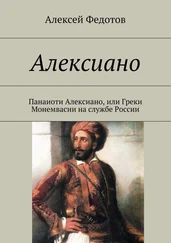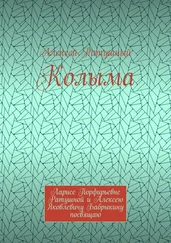Любая опера – это статичная, понятная вещь, она может существовать вообще без объяснений. Хотя тромбонист оркестра Дмитрий Шаров написал громадный объясняющий текст и хотел его зачитать перед началом оперы – режиссер не дал. А жаль, это нормальная практика. Причем не только в контексте современной оперы, я несколько раз видел перед показом вполне традиционной оперы, как режиссер или дирижер рассуждает о том, что, собственно, мы увидим. Никогда не забуду вступительного слова Петера Конвичного перед «Проданной невестой» Бедржиха Сметаны, из которого выяснилось, что автор был сумасшедшим и эта опера – манифестация его психического заболевания.
У ударных в опере особая роль. Четыре ударника (соответствующие четырем биографам Франциска и четыре евангелистам) расположены вокруг публики – их звуки передаются от одного к другому, образуя естественный сарраунд. Наряду с обычными ударными (в данном фрагменте это ластра (громовая жесть), малый барабан и тарелки, по которым играют смычком), исполнители используют элементарные материалы – камень, дерево и стекло. Простота этих материалов отсылает как к итальянскому „бедному искусству“ 1970-х (arte povera), так и к идеям бедности, которые проповедовал сам Франциск».
У «Франциска» четыре части, это классическая структура сонатно-симфонического цикла. Сперва соната, потом скерцо с кучей разных фрагментов, потом медленная часть – лирический дуэт и финал. Вполне традиционная драматургия, понятная слушателю, заканчивается вообще все в ре-мажоре – есть некоторые шансы, что слушатель не уйдет обиженным.
Бархатов мне, кстати, рассказывал, что после премьеры в Большом к нему подошли две женщины со словами: «Мы хотели бы высказаться от имени православных». Ну, думает, ахтунг, сейчас будут бить. Но нет, они очень содержательно поговорили. Во «Франциске» же много зацепок [24] Режиссер Василий Бархатов, художественный руководитель проекта «Опергруппа», в рамках которого был поставлен «Франциск».
– и собственно содержание, и отсылки к старинной музыке, к григорианским хоралам. Конечно, у меня там все очень плотно, объем информации большой, но опера – она всегда работает с объемом информации, который превышает наше восприятие. А искусство композитора состоит в том, чтобы это воспринималось как нечто совершенно естественное. Например, у Моцарта звучат одновременно три мелодии в разных размерах, и это нам не мешает, да? А какие безумные квинтеты у Чайковского в «Пиковой даме» или у Римского-Корсакова в финале «Царской невесты» – когда пять человек что-то поют разом.
– Чем вас заинтересовала история святого Франциска?
– Это мне предложил Теодор Курентзис в 2007 году на своей кухне. Причем для него это было каким-то спонтанным видением. Я был настолько изумлен, что согласился. И потом стал читать все, что мог найти. Прежде всего – книжку «Истоки францисканства», где есть две биографии Франциска: одна написана для более образованных людей, вторая – для менее. И они дают довольно неприглаженную картину жития святого – историю очень радикального, жесткого человека, который не всегда осознает, что он делает, то есть, в общем-то, психопата. А у меня радикалы и психопаты присутствуют более-менее во всех музыкальных произведениях. В общем, я совместил идею религиозности и аутсайдерства. В Швейцарии я нашел драматурга Клаудиуса Люнштедта и попросил его написать либретто. Без знаков препинания и без диалогов – опера, состоящая из диалогов, мне сейчас не кажется убедительной.
– А как вы стали композитором?
– У меня был двоюродный дядя, старше меня на пять лет. Он учился в Гнесинке и вместе с четырнадцатилетним Евгением Кисиным играл джазовые стандарты. И меня к этому делу пристрастил. Я почему-то решил, что буду сочинять музыку, а он будет ее играть – хотя мне было шесть лет. Причем никаких других музыкантов у меня в семье нет. В двенадцать лет я пошел на курсы для теоретиков, потом меня не приняли в Гнесинское училище, и я пошел в Мерзляковку, сразу на второй курс. И все было как-то очень ярко. Мы начали учиться в 1988 году, страна бурлила, менялась со страшной скоростью, а у нас было ощущение настоящего Хогвартса – вот мы сидим взаперти и приобщаемся к тайному знанию.
– Вы как-то представляли, как эти тайные знания будете применять?
– Нет, конечно. В 1992-м я переехал в Германию, при помощи благотворительной стипендии. И потихоньку начал находить точки соприкосновения с тем, что меня окружало. У меня никогда не было суперпедагогов, гуру, таких отцовских фигур, мне всегда было важно, что делают ровесники. Ну и я начал как-то оглядываться, анализировать, что вообще в мире происходит. Тогда ведь что было, в конце 1980-х – начале 1990-х? Я столкнулся с наследием сонма святых, пантеоном великих композиторов, которые сочетали склонность к редукции и метафизические притязания. Мортон Фелдман, который умер в 1987-м, Шельси, который умер в 1988-м, Кейдж, который умер в 1992-м, Луиджи Ноно, который умер в 1990-м. Самое сильное впечатление у меня было, когда я в 1992-м попал в Дрездене на фестиваль Кейджа. Там была куча его оркестровых сочинений. И вот я сижу в зале, а вокруг происходит бог знает что – на сцене четыре певца, шесть струнных квартетов, все играют одновременно. Это был совершенно тотальный музыкальный мир, он меня сильно впечатлил. И, главное, скучно не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу