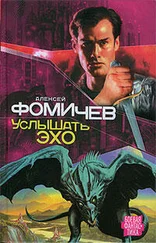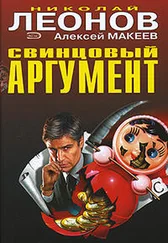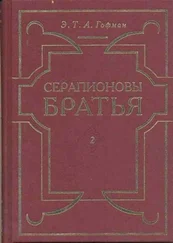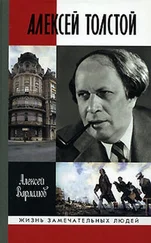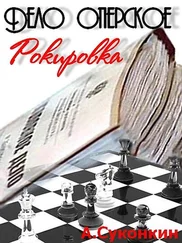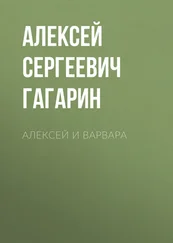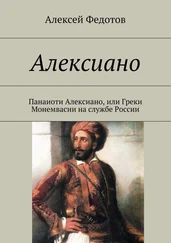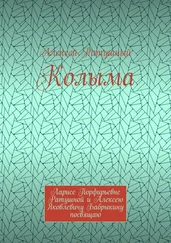– Считается, что в консерватории композиторов учат прежде всего мастерству. Дальше, пожалуйста, сочиняйте как хотите, но азами профессии надо владеть.
– С одной стороны, вроде логично. С другой, в этом есть много лукавства. Ведь все, кто учится на композиторов, очень много сил тратят на предмет под названием «гармония». Ее ведет Александр Кобляков, наш декан, ученик великого музыковеда-теоретика Юрия Холопова. И там будущие композиторы выполняют специальные задания: написать сонату, двенадцать прелюдий и фуг, в таком-то стиле, в сяком-то, упражнения на додекафонию. То есть, по идее, мы так проходим всю историю музыки, пишем учебные вещи. Но почему я должен повторяться и писать такой же диплом? Зачем это нужно? Для кого? Я хочу написать в качестве диплома то, что я умею и хочу, а не снова упражняться в каком-то стиле, пусть даже наши педагоги считают его образцовым.
– Умение написать двенадцать учебных прелюдий и фуг полезно? Оно нужно современному композитору?
– Не знаю… Вот чем оно лично мне нужно? Тем, что я уже никогда не буду так писать. Мы начали с нововенцев, и я как раз ориентировался тогда на Берга и Шенберга. Но я написал столько учебных работ по гармонии, что понял – я никогда больше не буду ничем таким заниматься.
Вообще, конечно, все полезно. Учиться нужно и важно, я и сам сколько учился всему и разному. Но самое полезное – это взглянуть на плоды своей учебы со стороны. Есть множество супертеоретиков, которые все знают и все могут объяснить, но как творческая величина они никто. Именно потому, что просто не могут выйти за пределы своих знаний.
– Что стало дальше происходить с вашей музыкой?
– Не могу сказать, что сразу обратился к текстовым партитурам или импровизации, это был очень тяжелый процесс. Первую текстовую партитуру я написал году в 2013-м. [145]
Сложно было решиться на этот шаг. Это было сочинение «Полнолуние»: два музыканта, виолончелист и кларнетист, играют по нотам, а остальные импровизируют на этом фоне. Но мне повезло, потому что попались просто великие импровизаторы [146] – как раз Сатико М и Тосимару Накамура. Идея была простая: есть два солиста, которые играют то, что я им написал, а импровизаторы просто слушают эту музыку и как-то стараются сделать ее лучше, ну или просто существовать в ней.
Японцы сразу все поняли, с ними не было никаких проблем. В ноты они не смотрели, не факт, что они вообще знают ноты. Правда, опыт в результате оказался довольно неудачным, потому что мне навязали для этого исполнения нашего известного перкуссиониста Владимира Тарасова, и он просто все угробил. Он вступил в преступную связь с японским танцовщиком, который солировал в этой пьесе, и она превратилась просто в танец с бубном. Для Тарасова больше никого не существовало – только он и танцовщик, он ему фактически аккомпанировал, причем с использованием своих фирменных приемов, которые абсолютно везде использует. Получился театр двух актеров. Этот плачевный опыт заставил меня еще больше задуматься о том, что делать и с нотацией, и с импровизацией.
– А для чего вам вообще понадобилась импровизация? Это ведь полностью противоположно всему, чем обычно занимаются в консерватории.
– Это произошло не сразу. Мне сложно было вновь начать импровизировать. Я много этим занимался в джазе, но это ведь совсем другое дело. А тут довольно странная музыка. Меня туда затянуло, я начал импровизировать и довольно быстро почувствовал диссонанс между тем, что я пишу нотами как композитор, и тем, что я играю как импровизатор. А совместить эти две линии крайне сложно. По сути, это утопия, движение к недостижимому.
– Как это в вас сочетается? Композитор – это человек, который пишет все заранее, старается все в своем сочинении контролировать и ожидает, что эту вещь будут потом исполнять по нотам посторонние люди. Импровизатор играет здесь и сейчас, повторить это невозможно, да и не нужно. Более того, часто даже переслушивать запись этой импровизации не всегда интересно.
– Да грустно все это. Мне вот неинтересно переслушивать свою музыку, почти без исключений. Причем пьеса может быть хорошей, я не говорю о неудачах, просто слушать ее мне не интересно. У меня есть, наверное, сочинений сорок-пятьдесят, из них я для себя могу послушать две-три пьесы. «Selene» переслушиваю, «Present perfect» [147] [148] – и все. И я даже понимаю почему: потому что они очень длинные. Там просто много всего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу