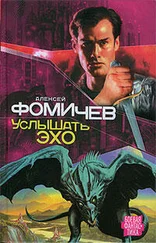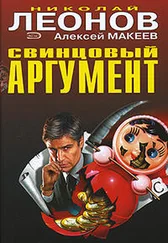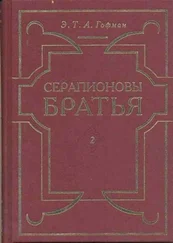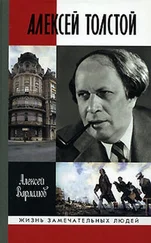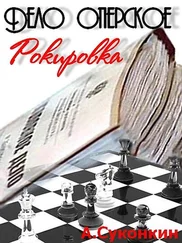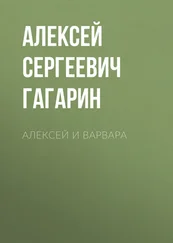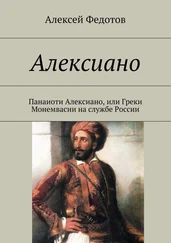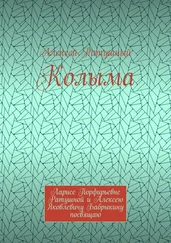Аналогии ничего не дают. Вот сколько литературы про Шостаковича существует? А лучшая книга – у Лизы Уилсон, которая просто записывала беседы с людьми, знавшими его лично. И возникает картина мира, эпохи, всего! Вы слышите многоликий хор встреч с ним, свидетельства, глупости, какие- [125]о случаи… И услышите музыку совершенно по-другому.
Да и сам автор часто в смущении. Стравинский вспоминал, как писал «Петрушку», а ему вдруг привиделись старцы. И явилась «Весна священная», безо всякой причины. Это же факт. Но что он может прояснить?
«Восьмая глава» накрыла меня пронзительнейше простейшим – на один и тот же текст поется целая вселенная разных прочтений. Представьте: как бы вы хорошо ни пропели строчку, вы опять ее пропеваете. И опять. И опять. Это и есть таинство. Вы понимаете, что это свидетельство того, что есть нечто, перед чем надо просто пасть ниц. Ну правда же?! Невероятная тайна. Пропели – изумились – опять пропели.
Однажды я оказался на утренней репетиции знаменитого дирижера Саймона Рэттла. Прихожу, на сцене – только группы виолончелей и контрабасов. И, хотя программа концерта огромна, они полтора (!) часа пропевали – именно что пропевали своими инструментами – речитативы финала Девятой симфонии Бетховена. Каждый из них в утробе матери их слышал, что тут репетировать?! Но они с Рэттлом – как в первый раз! Потом – еле приходили в себя. Потому что ничего такого никогда не слышали ни от себя, ни от кого. Потом начинали то же самое – совершенно по-другому! И опять – еле живы. И снова начинали. Как будто никто и никогда до этого ничего подобного не слышал, не знал и не умел. Я этого не забуду никогда!
А репортер пошел бы и стал мучать их: почему, да как вам пришло в голову… И все ответы заранее неудовлетворительны. Они отдались этой тайне. Думаю, и Бетховен вместе с ними ликовал на небе.
– Вы за современной музыкой следите?
– Специально – нет. Часто смотрю Mezzo. Многие оперные и концертные свершения. Снимать научились дивно, операторы знают партитуру лучше дирижера. А главное, это залы, которые я очень хорошо знаю. Так, что будто там и нахожусь.
Но вообще, круг того, с чем живу, очень ограничен. Чаплин, Баланчин… Фрески Дионисия из Ферапонтова монастыря. Вы знаете поразительный альбом, который сделал фотограф Юра Холдин? Холдин оказался в этом монастыре, в конце службы упал солнечный луч туда, куда нужно, и так, как нужно, и Юра подорвался на этом. Он был уже всемирно признанным фотографом, но все бросил, перебрался в монастырь и провел семь лет, снимая эти фрески. Ставил свет, искал ключи. Заново погрузился в Священное Писание. Ну, переродился человек. И сделал так, как даже живьем их не увидишь – потому что пока будешь рассматривать одну фреску, свет уйдет.
И потом так же кропотливо изготовил весь этот уникальный альбом. Типографии же гонят вал, а он арендовал типографию целиком на день, и за это время печатал только одну фотографию. Каждый отпечаток авторизованный, каждый альбом им лично завизирован. Но надо было как-то зарабатывать, он полез на какую-то крышу что-то снимать, сорвался, разбился. И осталась книга, совершенно невероятная. В ней Свет, которого мир не знал. Ничего подобного в мировой живописи просто не существует.
Потом я стал искать, а где в русской музыке хоть что-то подобное. Все песнопения XIX века, Бортнянский и так далее – просто ужасные. Там вопят «Верую» как государственный гимн. Но знаете, где я заловил это? В «Лебедином озере» Чайковского. Звучит парадоксально, но я твердо это знаю. Конечно, очень заезженно, но если бы «Озеро» исполнялось раз в несколько лет, это было бы очевиднее.
Там пронзительные вещи, которые у Чайковского только в балетных партитурах. И знаете, какую историю вспоминает Антоний Сурожский? Один авторитетнейший греческий богослов, перед которым он преклонялся, сказал, вернувшись из России: «Теперь я знаю, что такое молитва (!)». «Вы были в монастыре, в каком-то храме?» – спросил его владыка. «Я был на балете, – ответил богослов. – И ощутил это в танце балерины. В ее жесте, сиянии и молчании. Вспоминаю Исаака Сирина и его: «Вечное занятие ангелов на небе – это танец».
И у Баланчина есть это. Когда я смотрю его композиции, я прежде всего вижу явление Петербурга. Фокус традиции. Все-таки языку классического балета, который окончательно сформировался именно в Петербурге, подвластно все. Это абсолютный жест красоты. Совершенство. Свет. Светоносность.
И я могу смотреть его всю жизнь. И Чаплина, у которого весь смысл – во внимании к мгновению. Он все время ловит эту единственность. Возделывает ее. Потому и счастливый смех. Он не знает, где ее обнаружит. Но когда это случается – возникают хрестоматийные кадры. Это же немыслимые откровения!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу