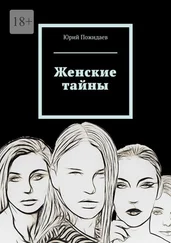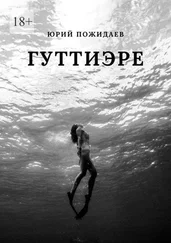Потом я попал в Большой театр на балет Прокофьева «Ромео и Джульетта». Роль Джульетты исполняла Галина Уланова. Впечатление от спектакля осталось очень сильное, а вот когда я стал вспоминать музыку, оказалось, что в памяти образовались большие провалы. Запомнилась сцена на балу (менуэт), тема Джульетты (мелодия со взлетами флейты), что-то еще…
Понравилась музыка к кинофильму «Александр Невский». Нравились мне и другие произведения Прокофьева, но не целиком, а отдельные их части: вальс из оперы «Война и мир», песни «Колыбельная», «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира», вторая часть Пятой симфонии. Но очень многое из того, что слышал, я не понимал, и это отталкивало.
Передавали как-то по радио оркестровую музыку. Она привлекла мое внимание удивительной, почти кристальной ясностью. Вальсовые мелодии, как полевые цветы на лугу, были красивы и в то же время просты. Потом будто горны наперебой запели быструю, веселую походную песню. Удивительный, прямо юношеский задор. После окончания передачи выяснилось, что это Седьмая симфония Прокофьева, того самого строгого и непонятного композитора, каким он мне, и не только мне, казался.
И вот куплена пластинка с записью симфонии. Слушаю внимательно от начала до конца один раз, другой, третий… Нравится все больше и больше. Если Прокофьев может быть таким прекрасным, лиричным и простым, так зачем писать чересчур усложненные вещи, отталкивающие слушателей?.. Понимаю, что так ставить вопрос нельзя. Ведь если нет подготовки, сложной может показаться даже сравнительно простая фортепьянная пьеса.
Любовь к Седьмой симфонии вызвала у меня непреодолимое желание как можно больше узнать о творчестве Прокофьева. И может быть, рассказ об этом будет полезен тем, кому еще предстоит открыть для себя этого замечательного композитора.
Седьмая симфония одно из его последних произведений. Очевидно, много лет шел композитор к ее простоте и лиричности. А может, всю жизнь? И я обратился к уже испытанному средству, стал читать биографию Прокофьева, искать, что же привело его к созданию Седьмой симфонии. Каким большим и сложным оказался для композитора этот путь!
Простота… Увы, молодой Прокофьев не мог понять, «как можно любить Моцарта с его простыми гармониями». Он искал тогда гармоний новых, необычных.
Вот как описал встречу Прокофьева с футуристами в московском «Кафе поэтов» поэт Василий Каменский:
«…Рыжий и трепетный, как огонь, он вбежал на эстраду, жарко пожал нам руки, объявил себя убежденным футуристом и сел за рояль. Для начала сыграл новую вещь „Наваждение“. Блестящее исполнение, виртуозная техника, изобретательская композиция так всех захватили, что нового футуриста долго не отпускали от рояля. Ну и темперамент у Прокофьева! Казалось, что в кафе происходит пожар, рушатся пламенеющие, как волосы композитора, балки, косяки, а мы стояли готовыми сгореть заживо в огне неслыханной музыки… Подобное совершается, быть может, раз в жизни, когда видишь, ощущаешь, что мастер „безумствует“ в сверхэкстазе, будто идет в смертную атаку, что этот натиск больше не повторится никогда…»
Тогда же, по свидетельству Каменского, Маяковский, который тоже был в это время в кафе, набросал карандашный портрет композитора, подписав: «Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира Владимировича».
Крайности в музыке Прокофьева озадачивали современников, но заражали его оптимизм и молодой задор. «С каким наслаждением и вместе удивлением наталкиваешься на это яркое и здоровое явление в ворохах современной изнеженности, расслабленности и анемичности», — писал в то время друг Прокофьева композитор Н. Я. Мясковский.
Читая биографию Прокофьева, я, к своему удивлению, обнаружил, что сам он давным-давно уже «высказался» о солнце. И произошло это до появления альбома.
26 января 1916 года в Петрограде состоялось первое исполнение Скифской сюиты Прокофьева под управлением композитора. Не без юмора вспоминает он об этом в автобиографии: «…После сюиты в зале разыгрался чрезвычайно большой шум… Глазунов, к которому я специально заезжал, чтобы пригласить на концерт… вышел из себя — и из зала, не вынеся солнечного восхода, то есть за восемь тактов до конца… Литаврист пробил литавру насквозь, и Зилоти обещал мне прислать прорванную кожу на память…»
Скифская сюита Прокофьева вопреки ожиданию не произвела на меня впечатления «скандального». Больше того, отдельные места сюиты мне просто понравились. Например, третья часть — «Ночь», полная негромких, таинственных и глубоких звуков… «Восход солнца», конечно, «слепит» слушателя нарастающим, накаленным звуком труб в высоком регистре. Эти восемь тактов звучат торжественно, но несколько пронзительно, раздражая слух.
Читать дальше
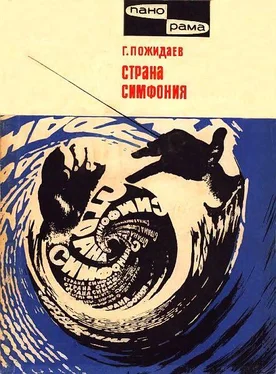
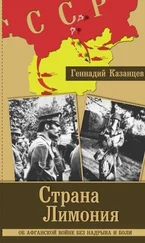
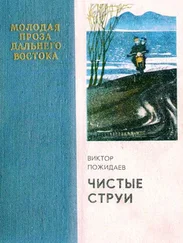
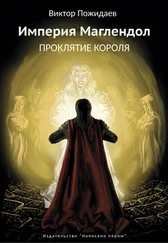

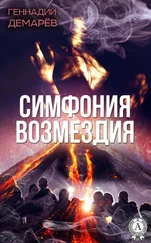
![Евгений Пожидаев - Яркий, как второе Солнце. Книга I [СИ]](/books/409208/evgenij-pozhidaev-yarkij-kak-vtoroe-solnce-kniga-i-thumb.webp)