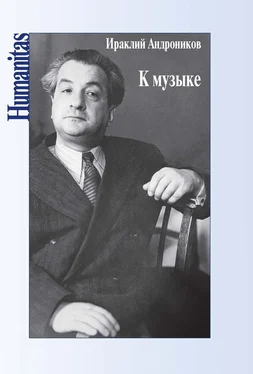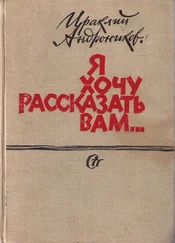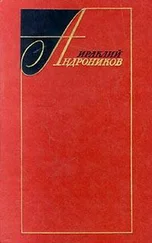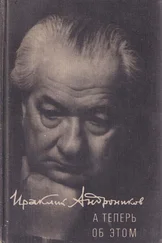Я сказал:
– Вы много его увидите, – папу.
– Откуда ты знаешь? Ты здесь не бывал.
– Я не знаю, а думаю.
– Что ты думаешь?
– Думаю, что папа не будет останавливаться, чтобы с вами поговорить. Промелькнет в машине, и все.
– Ага! Значит, ты говоришь, что нам не будут показывать папу? Все равно: поедем смотреть, как нам не будут показывать папу.
Я подумал: «Не хотят! Не надо. Но я же должен был предложить?». Кстати, я тоже мог посмотреть на выезд папы: папа выезжал в половине четвертого, а опера начиналась в пять. И когда в воскресенье нашим подали огромный автобус, я первым в этот автобус залез.
Приехали к Собору святого Петра. Вся левая сторона площади запружена огромной толпой, но сквозь тесноту проложен был коридор, в котором на мотороллерах сидели те, кто составлял эскорт папы, готовый ринуться по первому знаку. Дрожали рули в руках, завивался бензиновый дым. Было очень холодно, очень ветрено, шел сухой снег. Время мое подошло. И вместе с гидом – очень милой женщиной, мы сели в тот же автобус и отправились к опере. Прошли сквозь толпу в вестибюль. Постучали в окошечко. Билета, который фирма должна была заказать на мое имя, нет. Над кассой табличка – аншлаг.
Разыскали администрацию. Гид рассказала, что я «совиетико» и «скритторе» – писатель, имею отношению к музыке, выступал в филармонии в Ленинграде (тут уже все было пущено в ход). Администратор, не вынимая левой руки из кармана, протянул мне талон. Я прильнул к окошечку кассы и приобрел билет в бельэтаж, в боковую ложу… за пять с половиною тысяч лир!
Гид простилась со мной. Я вступил в коридоры театра, не в силах понять:
Поет Монако.
Пора начинать спектакль.
Билетов нет.
Публики тоже нет.
Только в первых рядах партера сидели пожилые длинноспинные иностранки в мехах, с биноклями и программками. Немного скучающих лиц дожидалось начала – в ложах, на балконах, на галерее. Свет еще не погас – из оркестровой ямы всплыл дирижер. По случаю дневного спектакля – не пластрон с белым бантом, а галстук. Хотя черный фрак, но серые брюки. Постучал палочкой. Стало темно. Увертюра пошла… Поплыл занавес.
До конца первого акта знаменитых дуэтов и арий нет. Так кто же станет спешить к началу! Но я же про это не знал! Те, что пели, – хорошо пели. Но все же мысль, правильно ли я употребил свои капиталы, несколько меня беспокоила. И, слушая оперу, я размышлял в то же время о том, как представить нашим в гостинице свою, как говорили в XVIII веке, конфузию как несомненную, как говорили в том же XVIII веке, викторию. Но подобные размышления могли меня занимать только по той причине, что я не бывал в Италии.
Перед концом первого акта – знаменитая «Импровизация» Андрея Шенье. Монако спел ее превосходно. Зрительный зал чуть не лопнул от бури восторга… Зажегся свет, я глянул!!!
Театр был переполнен так, что галереи, балконы и ложи гнулись! Все вывешивалось, как виноградные грозди через садовую стену на романтическом полотне. В зале стало тепло, душисто, торжественно, радостно, возбужденно!
Пошел второй акт. Я-то думал, что Марио дель Монако будет лучшим! Не был он лучшим! Другие были не хуже!
В этом спектакле пел знаменитый современный баритон Джианджакомо Гуэльфи – высокий, слегка полнеющий красавец. Тот самый Гуэльфи, который позже в составе миланской труппы приезжал к нам в Москву, провел на репетиции первый акт «Лючии ди Ламермур», охрип и, не спев ни одного спектакля, улетел обратно в Италию. Но в Риме-то он не охрип! Там он пел во всю широту и во всю красоту своего голоса! Да как пел! Как играл, посмотрели бы! Он расхаживал по сцене с непринужденностью и свободой, с какой другому не пройти по собственной комнате. Он исполнял партию благородного соперника Андрея Шенье – Жерара. Оба любят одну. А для нее жизни нет без Шенье. И она умрет в тот самый час, когда узнает о его казни.
Гуэльфи ходил, стоял, жестикулировал, совсем как те итальянцы, что теснились у входа. Но именно потому, что он был так раскован, это был совершенно достоверный герой времени Великой французской революции. Мне кажется, образ получался таким живым оттого, что из-за Жерара выглядывал краешек самого Гуэльфи. Так бывает, когда изображение наклеивается на паспарту и сразу становится живее, параднее, начинает казаться выпуклым. А кроме того – если подумать: ведь не мешает нам, когда мы читаем роман, следить за тем, как автор пересказывает мысли своих героев, тогда как никто не может знать этих мыслей, потому что герой никогда не высказывал их. И нам это не мешает, а помогает. Мы верим в эту условность, принимаем ее. Мало того: в романе едва ли не самое интересное не поступки героев, а то, что думает о них автор. Вот так же интересно было наблюдать, как из-за «кромки» Жерара выглядывал чуть-чуть сам Гуэльфи. Он был образом. И в то же время автором этого образа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу