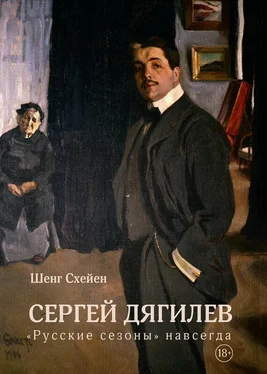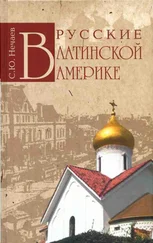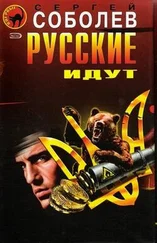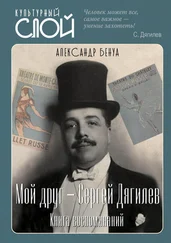Л. Бакст. Портрет К. Сомова
Бенуа, Философов и Нувель заканчивали университет на следующий год, Сергей потерял год и мог рассчитывать завершить учебу не раньше лета 1896 года. Особенно негативно на учебе сказалась его последняя длительная поездка. Для получения разрешения на поездку за границу студенту в полицейском Российском государстве требовалось ходатайство ректора об оформлении паспорта. В первый раз Дягилев заручился таким ходатайством, придумав, что за границей ему нужно навестить своих родственников. Но для оправдания гораздо более длительной поездки в 1893–1894 годах подобная уловка уже не годилась. У одного нечистого на руку врача он добыл справку, в которой говорилось, что он страдает хроническими болями и нуждается для их лечения в длительном пребывании в теплом климате. [72] Об этом свидетельствуют документы, находящиеся в историческом архиве в Санкт-Петербурге. См.: Личное дело С. П. Дягилева. ЦГИА СПб. Ф. 14. Дело 27819. Приводится по: Ласкин А. С. Русский период деятельности С. П. Дягилева: формирование новаторских художественных принципов. СПб., 2002.
Каким бы ударом по самолюбию и чувству собственного достоинства ни были для него описанные события, он, возможно, почувствовал даже своего рода облегчение. Больше всего на свете он хотел стать композитором, но из его отзывов о собственных работах мы можем сделать вывод, что он смотрел на свои сочинения с иронией и даже с некоторой несвойственной ему самокритикой. В своих критических способностях он никогда не сомневался, и как раз они указывали ему на ограниченность его творческого дарования. Фиаско в качестве композитора помогло ему осознать, что, коли уж он задумал стать гением, ему придется довольствоваться ролью гения воспринимающего, а не созидающего.
Итак, Дягилев был занят поисками нового смысла жизни, а повседневная реальность тем временем требовала его деятельного участия. Нужно было сдавать экзамены, восстанавливать связи с друзьями. Двое его младших братьев долгое время были предоставлены сами себе, но теперь уже не могли обойтись без помощи Сергея. Валентин и Юрий, одному из которых исполнилось 19, а другому 17 лет, по-прежнему оставались на его попечении, несмотря на то, что оба перешли на более высокую ступеньку в своем военном образовании. Особенно непросто учеба давалась Юрию, его дальнейшая карьера была под угрозой. Когда служба не привязывала их к казарме, братья по-прежнему жили у Сергея, двоюродный брат Павка часто заходил в гости без приглашения. Временами у Дягилева останавливался его отец, когда дела военной службы приводили его в Петербург. Отношения между отцом и сыном оставались натянутыми:
«Так хотелось бы, чтобы папа был милый и приятный […] От этого зависит все, особенно когда имеешь дело с таким тромбоном как Павка и таким тепличным растением как Дима» 12.
Что касается Дмитрия, то как бы мало ни было известно об отношениях Дягилева с его двоюродным братом, ясно одно: в этот период они были неразлучны и характер их отношений – Дягилев лидер, Философов ведомый – сложился окончательно. Это выдвигало перед Дягилевым важную дилемму, поскольку, при всей терпимости русского дворянства к гомосексуальным контактам юношей, считалось нормальным, что рано или поздно они женятся. Для бедного Сергея это составляло почти неразрешимую проблему, так как в его непосредственном окружении практически не было девушек соответствующего возраста. Большинство ближайших друзей: Дмитрий, Константин, Вальтер и, скорее всего, Павел – были гомосексуалистами и не имели опыта общения с женщинами.
Учитывая неустойчивость психики Дягилева, нетрудно предположить, что в этот период он пережил глубокий кризис либо даже прошел через целую полосу кризисов. На этот счет у нас не слишком много фактов, но 11 декабря того же года после относительно долгого молчания он пишет матери подробное письмо, которое говорит об огромном смятении, которым он, похоже, был охвачен, а также о невозможности подыскать нужные слова для описания своих невзгод.
«Дорогой друг мой мамочка!
Я несколько раз собирался к тебе писать, чтобы немножко опять приблизиться к тебе, моему доброму другу, от которого я столь отдален, не знаю, впрочем, почему и против воли. Все не то пишется, что хочешь сказать, да и не знаю, пожалуй, что хочу сказать. Теперь я скорее спокоен, но всю осень был в совершенном чаду, не свойственном и не гармонирующем ни с эстетикой моего возраста, ни, пожалуй, даже с моими глубоко погребенными убеждениями. Чад этот меня удалил от жизни, наполнив мою жизнь, а тут экономия сил, времени, энергии – все потеряло равновесие. Впрочем, все это слишком скользило на поверхности – и в этом отрицательная сторона. Теперь я временно опять стал человеком, опять много работаю. Я бы и рад был видеть тебя, но скажу правду – боюсь. Вот почему – от высшей пошлости до высшего эстетизма – один шаг, я стараюсь уверить себя, что я все-таки стою на эстетической почве в моей жизни, а ты, к тому же, от эстетизма ушла, да и потом вот еще что главное – я не знаю, прав ли я? Как много за то время было любопытного, как люди странны – как они жаждут вникнуть в тайну и как вместе с тем пугаются всякой обнаруженной тайны. В последнем случае отношения людей к тайнам ужасно неожиданны и часто уродливы. Всякому рекомендую все делать в тайне, насколько возможно, даже с обманом. Я же всю жизнь делал обратное, я растерял все свои тайны и вот теперь каюсь. Во всяком случае пишу тебе не для того, чтобы сообщать le dernièr cri, [73] Последний крик (фр.). (Прим. пер.)
но чтобы тебе сказать ласковое слово, чтобы приблизиться к тебе, а то жизнь все разлучает людей. Твой Сережа» 13.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу