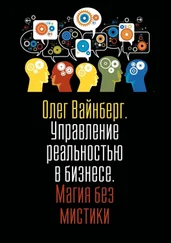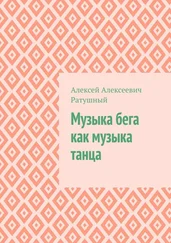Это же, вероятно, относится и к странному переживанию шведского поэта Вернера фон Хейденштама. Непонятно лишь то, как несколько человек, находившихся в разных комнатах, одновременно слышали необычную музыку, которая раздавалась из угла комнаты, перемещалась по кабинету художника и, видимо, производилась неизвестным старинным инструментом, похожим на арфу. Чуть ли не каждую ночь эта музыка «растекалась» по комнате, а затем исчезала сквозь стену. Поэт послал записанную им мелодию композитору Гёсте Гейеру. Тот установил, что она основывалась на старинной церковной тональности, миксолидийской, о которой ни Хейденштам, ни члены его семьи не имели ни малейшего представления. Это происшествие Гёста Гейер описал в своей книге о «музыкальных проблемах». Впервые ноты этой мелодии были опубликованы Вильгельмом Вирховом в австрийском музыкальном журнале «Меркер» (вып. 5, с. 331), затем в «Новом музыкальном журнале» (1914, № 25), и наконец, Людвиг Розенбергер включил их в свой сборник [15]. Вирхов опубликовал также письмо Хейденштама, в котором удостоверялась правдивость событий и содержалось следующее замечание: «Хочу особо отметить, что я совершенно не верю в привидения. Я полагаю, что мертвые, и в самом деле, действительно мертвы. Слышимые (sic!) природные звуки, не принадлежащие человеку, например, во время грозы или шум моря, все до единого следуют определенной логике, как в примитивной гамме. Также и звуки, которые можно услышать при лихорадке, обладают своей музыкальной логикой, подобно старинной мессе. Но, пожалуй, это вряд ли что-нибудь объясняет, потому что ни один человек не был болен, буря не бушевала, а источник звуков установить было невозможно».
Не следует ли признать правоту Андреаса Веркмейстера, одного из самых образованных людей своего времени, который в 1707 г. писал: «По моему мнению, / своей цели музыка тоже пока не достигла / и в ней скрываются еще многие тайны, / какие БОГ полностью откроет своим детям в свое время, / потом, / в вечной жизни».
В своем «путешествии» по царству реальных звуков природы мы подошли к одной из границ, где человеческий разум обычно терпит фиаско. Как уже говорилось, границы миров расплывчаты, и у нас еще не раз будет возможность убедиться в том, что от ирреального, абстрактного мира звуков нас, в сущности, отделяет лишь тонкая, прозрачная стена. Чтобы попасть в эту область – в царство неслышимой, по словам Вагнера, «латентной» музыки, «с чьей помощью впервые открывается глубинное значение мира», – на нашем пути познания нам требуется сделать лишь один шаг. И «мир начинает петь, надо только найти волшебное слово». И нельзя сказать, что это волшебное слово нам совсем неизвестно. Им может быть только число.
Представим себе, что мы держим в руках неизвестный музыкальный инструмент. Он не звучит, да и не может звучать, потому что для этого у него нет акустических предпосылок – резонатора и струн. И все же мы не сомневаемся, что это действительно музыкальный инструмент. Мы узнаем это по определенным пропорциям грифа, на котором натянуты струны, или по расположению высверленных звуковых отверстий в стволе духового инструмента. Иными словами, если бы он был предназначен для извлечения звука и снабжен струнами, то мы сразу могли бы рассчитать, что целая струна способна издавать основной тон, половина струны – октаву от основного тона, струна, укороченная на одну треть, – квинту и т. д. Нам не составило бы труда перенести свой опыт, приобретенный при игре на привычных музыкальных инструментах, на этот неизвестный инструмент, звучания которого мы не слышали. И если мы положим в основу своих рассуждений известный ряд отношений 1:2:3:4 и т. д., равный основному тону, октаве, квинте, кварте и т. д., то мы могли бы представить себе, как может звучать этот инструмент, и знатоку музыки это представление могло бы даже заменить настоящую игру на нем. Но разве знаток музыки не способен с помощью музыкального воображения «услышать» звучание несуществующего инструмента? Ведь ему достаточно иметь сведения о натуральном строе, чтобы знать: 2:3 – это квинта, 4:5 – терция, 8:9 – целый тон. Иначе говоря, все, что в пространственных пропорциях упорядочено в соответствии с этим строем, для него начинает звучать, ибо музыкант может в уме сразу образовать последовательность звуков квинты, терции и секунды. Для него «дивный лад во всех созданиях дремлет». Числа дают ему также сведения о том, гармоничен ли лад или он диссонирует.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
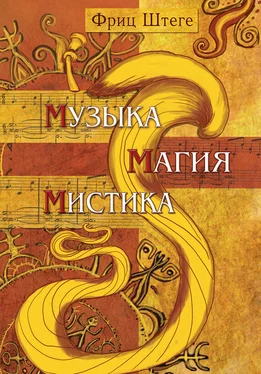
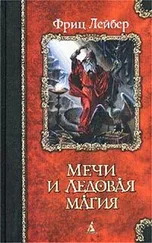
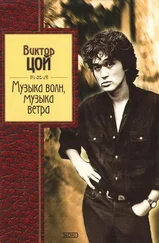
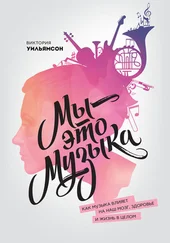
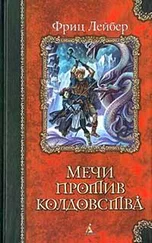
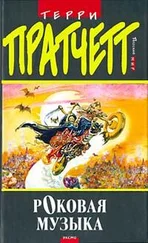

![Аре Бреан - Музыка и мозг [Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект]](/books/398841/are-brean-muzyka-i-mozg-kak-muzyka-vliyaet-na-emoc-thumb.webp)
![Фриц Лейбер - Мечи и черная магия [сборник]](/books/422980/fric-lejber-mechi-i-chernaya-magiya-sbornik-thumb.webp)