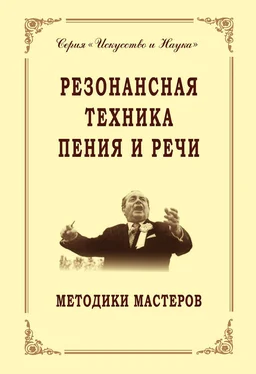Мне, как и любому современному вокальному педагогу, заботящемуся о своей научно-теоретической подготовке, всегда было интересно узнать, почему мой педагог требовал от меня именно этой техники для выявления наилучшего звучания. Естественно, что для того времени, когда начинала обучаться я, научные ответы найти было очень трудно. Тонны прочитанной литературы давали понимание лишь некоторых явлений, по крупицам собирался научный портрет вокального аппарата. И все же что-то основное, как мне казалось, оставалось за пределами моего понимания, а именно – не было цельной картины. Хотя «школа Гандольфи» срабатывала неукоснительно и без моего понимания.
Сама я попала к Елене Михайловне Рожковой уже после того, как проработала в театрах Советского Союза двадцать лет. Голос, от природы поставленный, потребовал «профилактического ремонта». И тогда я обратилась к лучшим педагогам Москвы. Но результат оказался плачевным. Я совсем потеряла голос. Никто из именитых педагогов не хотел браться за исправление моего «больного» аппарата. И только Елена Михайловна на мою просьбу послушать меня заявила: «И слушать не хочу. Хотите петь, вставайте, будете петь». Голос был не только восстановлен, а еще, как оказалось, кроме лирического сопрано был выявлен огромный диапазон и мощь драматического сопрано. И это сделала «школа Гандольфи». Эту школу я получала из уст в уста – несколько лет сидела рядом с Еленой Михайловной, а передо мной проходили ее ученики: тенора, басы, баритоны, сопрано всех типов, каждые со своими «болячками», потому что приходили на «исправление» и певцы Большого театра. Я останавливаюсь на этих деталях так подробно потому, что потом, уже много лет спустя, при прочтении книги В. Морозова «Искусство резонансного пения», все встало на свои места – резонансная техника пения! И затем моя двадцатилетняя педагогическая практика показала действенность «школы Гандольфи», т. е., школы резонансного пения. Вот почему Г. И. Тиц был в свое время одним из лучших педагогов, продолжив «эстафету» Э. Гандольфи, вот почему П. И. Скусниченко воспитал двадцать лауреатов, продолжив школу своих талантливых учителей.
В предисловии к книге В. Морозова Скусниченко пишет: «Я глубоко убежден, что резонансная техника пения – единственно правильный путь воспитания профессионального певца. Ее сторонником был мой педагог – профессор Г. И. Тиц. Когда я поступил в консерваторию, будучи, как мне казалось, уже сложившимся певцом, он целый год держал меня на упражнениях, развивающих резонансные ощущения, близкий звук» (Морозов, 2002, с. 5 ).
Весьма знаменательное заявление – целый год держал на упражнениях, развивающих резонансные ощущения! Учебные программы в музыкальных институтах позволяют в порядке исключения каждого ученика вести по особой программе. Но не всякий педагог воспользуется этим – чтобы «год держать ученика на упражнениях». Требование – выдай с учеником к зачету серию оговоренных в программе произведений: зарубежную арию, русскую, камерный блок, народную песню и т. п. – заставляет педагога спешить, «выполнять план». Поскольку, как отмечает П. Скусниченко в своем предисловии к книге В. Морозова (с. 6) – нет практических руководств по воспитанию у певцов резонансной техники пения, то приходится констатировать, что резонансная техника пения, так необходимая современной вокальной школе, существует пока «подпольно» и передается «из уст в уста». Вся моя двадцатилетняя практика показывает, что одним из основных и важных моментов в постановке голоса певца, является связь дыхания с резонаторами, формирование, как пишет В. Морозов в своей книге «резонирующего» дыхания, превращение выдыхаемой струи воздуха в резонирующий столб (гл. 4, с. 185 ). И сам В. Морозов считает это сверхважнейшей певческой проблемой. Вывод – выдыхаемый воздух должен превращаться в звук. Но разве мы не получаем «на выходе» звук? Любой певец выдает звук. Значит, речь идет об особенном звуке. Следовательно, надо рассмотреть, что же такое «озвученное дыхание» и из каких компонентов оно составляется, в результате чего возникает этот эффект «резонирующего дыхания».
Исследуя творчество выдающихся певцов, В. Морозов пришел к выводу, что взаимодействие резонаторной и дыхательной систем, (должным образом сонастроенных), превращает аппарат певца во взаимосвязанную автоколебательную систему, в которой звучащим телом становится воздух, заключенный в дыхательных путях-резонаторах (с. 341). Все предыдущие столетия существования вокальной практики, педагоги и певцы были уверены, что существует она, тайна вокала и трепетно искали ответа, в чем же заключается эта тайна. Высказанная Ламперти мысль, что искусство пения есть искусство дыхания, было подхвачено практически всеми. Однако, этот постулат, не улучшил положение с вокальной педагогикой. Как и в прежние века, так и сейчас, только отдельные педагоги выделяются своим дарованием, выпуская певцов, обладающих всем комплексом вокальных навыков, соответствующих требованиям и нормам современного концертно-оперного исполнительства. Восточная мудрость гласит: сколько ни говори: халва-халва, во рту слаще не будет. Так и в данном случае с определением Ламперти относительно важности дыхания. Вряд ли мы можем найти певца или педагога, который станет отрицать эту очевидную природную данность для вокалиста. Однако сколько их, таких певцов или педагогов (сотни и сотни, может быть, тысячи?), которые на уроке как заклинание произносят – дыхание-дыхание, а результат оказывается посредственным и часто плачевным для певца. Вывод напрашивается один – значит, не в этом или не только в этом секрет вокала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу