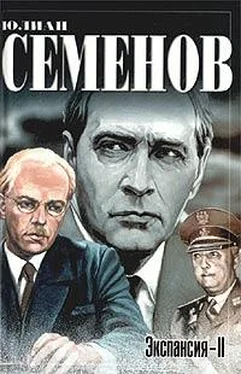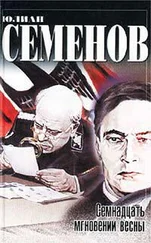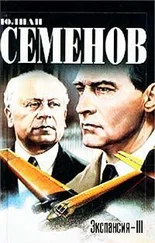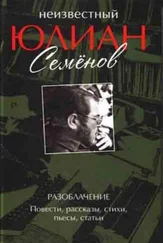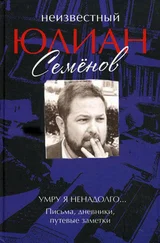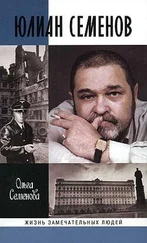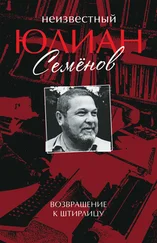А каково будет Роумэну, если я выйду из самолета, чувствуя, что сил продолжать борьбу нет? Каково будет ему остаться одному? Я ведь пообещал ему не уходить, обговорил формы связи, породил в нем надежду на то, что буду рядом. Я готов к тому, чтобы стать лгуном? Изменить данному слову?»
Штирлиц вернулся на свое место; стюард попросил его пристегнуть ремни.
– Через тридцать минут мы сядем в Лиссабоне, сеньор. Еще виски?
– А почему бы и нет? Вы давно летаете на этом рейсе?
– Третий месяц, сеньор. Я был среди тех, кто открывал линию.
– Полет утомителен?
– В определенной мере. Но зато абсолютно надежен. Не зря ведь ученые считают, что на земле и в океане куда больше возможностей попасть в катастрофу. Вы, кстати, застраховались перед вылетом?
– Нет. А надо было?
Стюард пожал плечами:
– Я-то застраховался на пятьсот тысяч, пятую часть оплатила фирма; у меня жена ждет ребенка...
– Боитесь перелета?
– Ну что вы, сеньор, – ответил стюард, – такая надежная машина, гарантия безопасности абсолютна...
По тому, как парень ответил ему, Штирлиц понял, что тот боится. «Да и сам ты побаиваешься, – сказал он себе, – нет людей без страха; есть бесстрашные люди, но это те, кто умеет переступать страх, знакомый им, как и всем другим; очень скверное чувство, особенно если боишься не только за себя, но и за тех, кого любишь, а еще за то, что у тебя в голове, что необходимо сохранить для пользы дела, рассказав об этом, известном одному лишь тебе, всем, кого это касается. А ведь то, что знаешь т ы, касается всех, потому что никто не знает нацизма, как ты, никто из выживших. Не было людей, переживших инквизицию, ибо она не рухнула, подобно нацизму, но медленно и ползуче сошла на нет, обретя иные формы в мире. Остались иносказания и намеки. Летописи инквизиции, оставленной жертвами и свидетелями, не существует; значит, всегда будет возможное двоетолкование фактов. Я в этом смысле уникум : человек враждебной нацизму идеологии двенадцать лет – всю его государственную историю – проработал в его святая святых – в политической разведке. Кто скажет миру правду , как не я? Но почему, – в который уже раз, прерывая самого себя, Штирлиц задал себе вопрос, который постоянно мучил его, – почему Мюллер позволил мне узнать больше того, что я имел право знать? Почему его люди называли в соседней комнате имена своих агентов – такие имена, от которых волосы становятся дыбом?! До тех пор, – сказал он себе, – пока ты не найдешь этих людей, имена которых знаешь, а еще лучше Мюллера, – он жив, он готовился к тому, чтобы уйти, – ты ничего не поймешь, сколько бы ни бился. Хватит об этом, смотри в иллюминатор. Снова кто-то швырнул на землю сине-бело-желтую гроздь звезд – Лиссабон, столица Салазара, друга фюрера; сколько же у него осталось в мире друзей, а?!»
Пассажир, который вошел в самолет в Лиссабоне, показался Штирлицу знакомым. «Я встречал этого человека. Но он знает меня лучше, чем я его. Это точно. Цинковоглазый? Нет. Другое. Вспомни его, – прикрикнул он на себя и, усмехнувшись, подумал невольно: – Мы, верно, единственная нация, которая и думает-то проворно только в экстремальной ситуации. Американец вечно торопится, он весь в деле; британец величав и постоянно озабочен тем, чтобы сохранить видимость величия; француз рад жизни и поэтому отводит от себя неугодные мысли, а более всего ему не хочется терять что-либо, не любит проигрыша, прав Мопассан; мы же витаем , нам угодно парение. Мысль как выявление сиюминутного резона не в нашем характере, пока гром не грянет, не перекрестимся».
Пассажир обвалисто устроился в кресле; он как-то до отвратительного надежно обвыкался на своем месте, ерзал локтями, поводил плечами, потом, почувствовав себя удобно, обернулся, встретился глазами со Штирлицем, нахмурился, лоб свело резкими морщинами, рот сжался в узкую щель: тоже, видимо, вспоминал.
Первым, однако, вспомнил Штирлиц: это был адъютант Отто Скорцени штурмбанфюрер Ригельт.
– Привет, – кивнул Ригельт. – Это вы?
Штирлиц усмехнулся – вопрос был несколько странным.
– Это я.
– Я к вам сяду или вы ко мне? – спросил Ригельт.
– Как угодно, – ответил Штирлиц. – Простите, я запамятовал ваше имя...
– А я – ваше...
– Зовите меня Браун.
– А я – Викель...
Роумэн (Мадрид, ноябрь сорок шестого)
– Быстро же вы добрались до Мадрида, господин Гаузнер, – сказал Роумэн.
– Да, я действительно добрался очень быстро, – хмуро ответил Гаузнер. – Идите в комнату, Роумэн, у нас мало времени.
Читать дальше