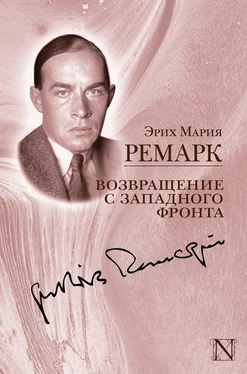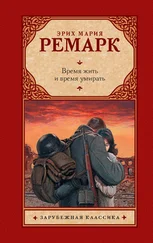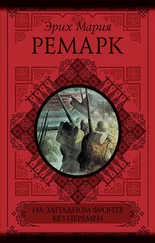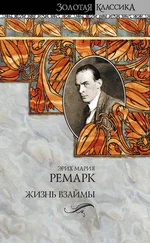Дни идут. Однажды туманным утром русские снова хоронят одного из своих: у них теперь почти каждый день умирает несколько человек. Я как раз стою на посту, когда его опускают в могилу. Пленные поют панихиду, они поют ее на несколько голосов, и их пение как-то не похоже на хор, оно скорее напоминает звуки органа, стоящего где-то в степи.
Похороны быстро заканчиваются.
Вечером пленные снова стоят у ограды, и из березовых рощ к ним доносятся ветры. Звезды светят холодным светом.
Я теперь знаю нескольких пленных, которые довольно хорошо говорят по-немецки. Один из них – музыкант, он рассказывает, что был когда-то скрипачом в Берлине. Услыхав, что я немного играю на рояле, он достает свою скрипку и начинает играть. Остальные садятся и прислоняются спиной к ограде. Он играет стоя, порой лицо его принимает то отчужденное выражение, какое бывает у скрипачей, когда они закрывают глаза, но затем скрипка снова начинает ходить у него в руках, следуя за ритмом, и он улыбается мне.
Должно быть, он играет народные песни; его товарищи тихо, без слов подтягивают ему. Они – как темные холмы, поющие подземным нутряным басом. Голос скрипки, светлый и одинокий, слышится где-то высоко над ними, как будто на холме стоит стройная девушка. Голоса смолкают, а скрипка все звучит – звук кажется тоненьким, словно скрипке холодно ночью, – надо бы встать где-нибудь совсем близко к ней, наверно, в помещении ее было б лучше слушать. Здесь же, под открытым небом, ее блуждающий в одиночестве голос нагоняет грусть.
Мне не дают увольнения в воскресные дни, ведь я только что вернулся из длительного отпуска. Поэтому в последнее воскресенье перед моим отъездом отец и старшая сестра сами приезжают ко мне. Мы весь день сидим в солдатском клубе. Куда же нам еще деваться? В барак нам идти не хочется. В середине дня мы идем прогуляться в степь.
Время тянется медленно; мы не знаем, о чем говорить. Поэтому мы разговариваем о болезни матери. Теперь уже выяснилось, что у нее рак, она лежит в больнице, и скоро ей будут делать операцию. Врачи надеются, что она выздоровеет, но мы что-то не слыхали, чтобы рак можно было вылечить.
– Где же она лежит? – спрашиваю я.
– В госпитале Святой Луизы, – говорит отец.
– В каком классе?
– В третьем. Придется подождать, пока скажут, сколько будет стоить операция. Она сама хотела, чтоб ее положили в третий. Она сказала, что там ей будет не так скучно. К тому же это дешевле.
– Но ведь там столько народу в одной палате! Она, пожалуй, не сможет спать по ночам.
Отец кивает. Лицо у него усталое, в глубоких морщинах. Мать часто болела, и, хотя ложилась в больницу только под нашим нажимом, ее лечение стоило нам немалых денег. Отец положил на это, по сути дела, всю свою жизнь.
– Если б только знать, во что обойдется операция, – говорит он.
– А вы еще не спрашивали?
– Прямо мы не спрашивали, так делать нельзя – а вдруг врач рассердится? Это не дело, ведь он будет оперировать маму.
Да, думаю я с горечью, так уж повелось у нас, так уж повелось у них – у бедняков. Они не смеют спросить о цене, они лучше будут мучиться, но не спросят; а те, другие, которым и спрашивать-то незачем, они считают вполне естественным договариваться о цене заранее. И врач на них не рассердится.
– А потом надо делать перевязки, и это тоже так дорого стоит, – говорит отец.
– А больничная касса, разве она ничего не платит? – спрашиваю я.
– Мама слишком долго болеет.
– Но у вас же есть хоть немного денег?
Он качает головой:
– Нет. Но теперь я опять смогу взять сверхурочную работу.
Я знаю: он будет резать, фальцевать и клеить, стоя за своим столом до двенадцати часов ночи. В восемь вечера он похлебает пустого супу, сваренного из тех жалких продуктов, которые они получают по карточкам. Затем он примет порошок от головной боли и снова возьмется за работу.
Чтобы немного развеселить его, я рассказываю ему несколько пришедших мне на ум забавных историй – солдатские анекдоты насчет генералов и фельдфебелей, которых где-то кто-то оставил в дураках, и прочее в этом роде.
После прогулки я провожаю отца и сестру на станцию. Они дают мне банку повидла и пакет с картофельными лепешками – мать еще успела нажарить их для меня.
Затем они уезжают, а я возвращаюсь в бараки.
Вечером я вынимаю несколько лепешек, намазываю на них повидло и начинаю есть. Но мне что-то не хочется. Я выхожу во двор, чтобы отдать лепешки русским.
Тут мне приходит в голову, что мать жарила их сама и, когда она стояла у горячей плиты, у нее, быть может, были боли. Я кладу пакет обратно в ранец и беру с собой для русских только две лепешки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу