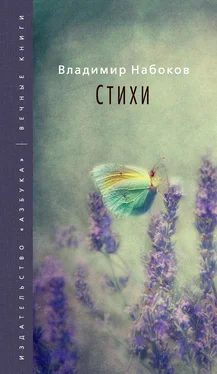страшный малютка, небесный калека,
гость, по ошибке влетевший ко мне,
дико метался, боясь человека,
а человек прижимался к стене,
все еще в свадебном галстуке белом,
выставив руку, лицо отклоня,
с ужасом тем же, но оцепенелым:
только бы он не коснулся меня,
только бы вылетел, только нашел бы
это окно и опять, в неземной
лаборатории, в синюю колбу
сел бы, сложась, ангелочек ночной.
1932 г.
В миру фотограф уличный, теперь же
царь и поэт, парнасский самодержец
(который год сидящий взаперти),
он говорил:
«Ко славе низойти
я не желал. Она сама примчалась.
Уж я забыл, где муза обучалась,
но путь ее был прям и одинок.
Я не умел друзей готовить впрок,
из лапы льва не извлекал занозы.
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.
Блаженный жребий. Как мне дорога
унылая улыбочка врага.
Люблю я неудачника тревожить,
сны обо мне мучительные множить
и теневой рассматривать скелет
завистника прозрачного на свет.
Когда луну я балую балладой,
волнуются деревья за оградой,
вне очереди торопясь попасть
в мои стихи. Доверена мне власть
над всей землей, соседу непослушной.
И счастие так ширится воздушно,
так полнится сияньем голова,
такие совершенные слова
встречают мысль и улетают с нею,
что ничего записывать не смею.
Но иногда – другим бы стать, другим!
О, поскорее! Плотником, портным,
а то еще – фотографом бродячим:
как в старой сказке жить, ходить по дачам,
снимать детей пятнистых в гамаке,
собаку их и тени на песке».
1933 г.
Такой зеленый, серый, то есть
весь заштрихованный дождем,
и липовое, столь густое,
что я перенести – уйдем.
Уйдем и этот сад оставим,
и дождь, кипящий на тропах
между тяжелыми цветами,
целующими липкий прах.
Уйдем, уйдем, пока не поздно,
скорее, под плащом, домой,
пока еще ты не опознан,
безумный мой, безумный мой!
Держусь, молчу. Но с годом каждым,
под гомон птиц и шум ветвей,
разлука та обидней кажется,
обида кажется глупей.
И все страшней, что опрометчиво
проговорюсь и перебью
теченье тихой, трудной речи,
давно проникшей в жизнь мою.
Над краснощекими рабами
лазурь, как лаковая вся,
с накачанными облаками,
едва заметными толчками
передвигающимися.
Ужель нельзя там притулиться
и нет там темного угла,
где темнота могла бы слиться
с иероглифами крыла?
Так бабочка не шевелится
пластом на плесени ствола.
Какой закат! И завтра снова,
и долго-долго быть жаре,
что безошибочно основано
на тишине и мошкаре.
В луче вечернем повисая,
она толчется без конца,
как бы игрушка золотая
в руках немого продавца.
Как я люблю тебя. Есть в этом
вечернем воздухе порой
лазейки для души, просветы
в тончайшей ткани мировой.
Лучи проходят меж стволами.
Как я люблю тебя! Лучи
проходят меж стволами, пламенем
ложатся на стволы. Молчи.
Замри под веткою расцветшей,
вдохни, какое разлилось, —
зажмурься, уменьшись и в вечное
пройди украдкою насквозь.
Берлин 1934 г.
Торопя этой жизни развязку,
не любя на земле ничего,
все гляжу я на белую маску
неживого лица твоего.
В без конца замирающих струнах
слышу голос твоей красоты.
В бледных толпах утопленниц юных
всех бледней и пленительней ты.
Ты со мною хоть в звуках помешкай,
жребий твой был на счастие скуп,
так ответь же посмертной усмешкой
очарованных гипсовых губ.
Неподвижны и выпуклы веки,
густо слиплись ресницы. Ответь,
неужели навеки, навеки…
А ведь как ты умела глядеть!
Плечи худенькие, молодые,
черный крест шерстяного платка,
фонари, ветер, тучи ночные,
в темных яблоках злая река.
Кто он был, умоляю, поведай,
соблазнитель таинственный твой, —
кудреватый племянник соседа —
пестрый галстучек, зуб золотой?
Или звездных небес завсегдатай,
друг бутылки, костей и кия,
вот такой же гуляка проклятый,
прогоревший мечтатель, как я?
И теперь, сотрясаясь всем телом,
он, как я, на кровати сидит
в черном мире, давно опустелом,
и на белую маску глядит.
Берлин 1934 г.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу