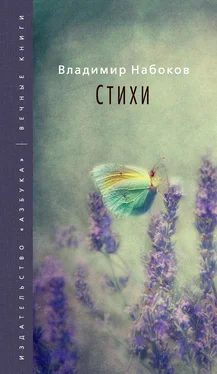1924 г.
Утихнет жизни рокот жадный,
и станет музыкою тишь,
гость босоногий, гость прохладный,
ты и за мною прилетишь.
И душу из земного мрака
поднимешь, как письмо, на свет,
ища в ней водяного знака
сквозь тени суетные лет.
И просияет то, что сонно
в себе я чую и таю,
знак нестираемый, исконный,
узор, придуманный в раю.
О, смерть моя! С землей уснувшей
разлука плавная светла:
полет страницы, соскользнувшей
при дуновенье со стола.
1924 г.
За громадные годы изгнанья,
вся колючим жаром дыша,
исходила ты мирозданья,
о, косматая наша душа.
Семимильных сапог не обула,
и не мчал тебя чародей,
но от пыльных зловоний Стамбула
до парижских литых площадей,
от полярной губы до Бискры,
где с арабом прильнула к ручью,
ты прошла и сыпала искры,
если трогали шерсть твою.
Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
умирают девушки их.
Слишком вольно душе на свете.
Встанет ветер всея Руси,
и душа скитальцев ответит,
и ей ветер скажет: неси.
И по ребрам дубовых лестниц
мы прикатим с собой на пир
бочки солнца, тугие песни
и в рогожу завернутый мир.
1924 г.
Я показывал твой смятый снимок
трем блудницам. Плыл кабак ночной,
Рассвело. Убогий город вымок
в бледном воздухе. Я шел домой.
Освещенное окно, где черный
человечек брился, помню; стон
первого трамвая; и просторный,
тронутый рассветом небосклон.
Боль моя лучи свои простерла,
в небеса невысохшие шла.
Голое переполнялось горло
судорогой битого стекла.
И окно погасло: кончил бриться.
День рабочий, бледный, впереди.
А в крови все голос твой струится:
навсегда, сказала, уходи.
И подумала; и где-то капал
кран; и повторила: «навсегда».
В обмороке, очень тихо, на пол
тихо соскользнула, как вода.
Берлин
8 февраля 1924 г.
Хоть притупилась шпага, и сутулей
вхожу в сады, и запылен
мой черный плащ, – душа все тот же улей
случайно-сладостных имен.
И ни одна не ведает, внимая
моей заученной мольбе,
что рядом склеп, где статуя немая,
воспоминанье о тебе.
О, смена встреч, обманы вдохновенья.
В обманах смысл и сладость есть:
не жажда невозможного забвенья,
а увлекательная месть.
И вот душа вздыхает, как живая,
при убедительной луне,
в живой душе искусно вызывая
все то, что умерло во мне.
Но только с ней поникну в сумрак сладкий,
и дивно задрожит она,
тройным ударом мраморной перчатки
вдруг будет дверь потрясена.
И вспомнится испанское сказанье,
и тяжко из загробных стран
смертельное любви воспоминанье
войдет, как белый великан.
Оно сожмет, торжественно, без слова,
мне сердце дланью ледяной,
и пламенные пропасти былого
вдруг распахнутся предо мной.
Но, не поняв, что сердцу нежеланна,
что сердце темное мертво,
доверчиво лепечет Донна Анна,
не видя гостя моего.
1924 г.
Сложим крылья наших видений.
Ночь. Друг на друга дома углами
валятся. Перешиблены тени.
Фонарь – сломанное пламя.
В комнате деревянный ветер косит
мебель. Зеркалу удержать трудно
стол, апельсины на подносе.
И лицо мое изумрудно.
Ты – в черном платье, полет, поэма
черных углов в этом мире пестром.
Упираешься, траурная теорема,
в потолок коленом острым.
В этом мире страшном, не нашем, Боже,
буквы жизни и целые строки
наборщики переставили. Сложим
крылья, мой ангел высокий.
1924 г.
Ничем не смоешь подписи косой
судьбы на человеческой ладони,
ни грубыми трудами, ни росой
всех аравийских благовоний.
Ничем не смоешь взгляда моего,
тобой допущенного на мгновенье.
Не знаешь ты, как страшно волшебство
бесплотного прикосновенья.
И в этот миг, пока дышал мой взгляд,
издалека тобою обладавший,
моя мечта была сильней стократ
твоей судьбы, тебя создавшей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу